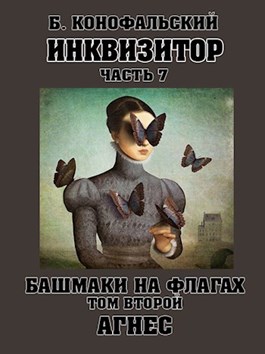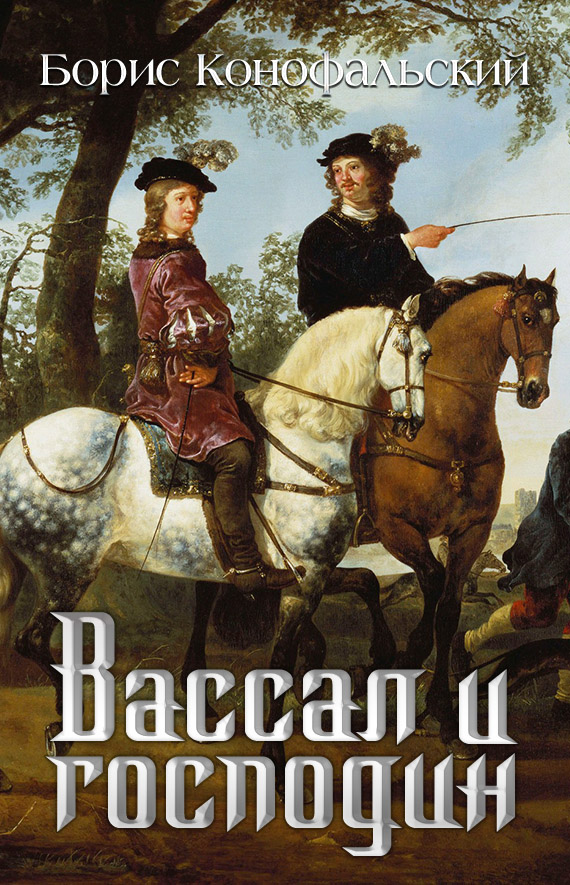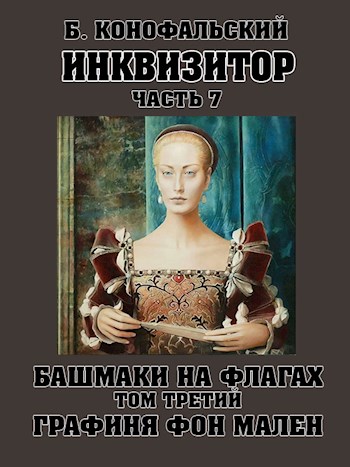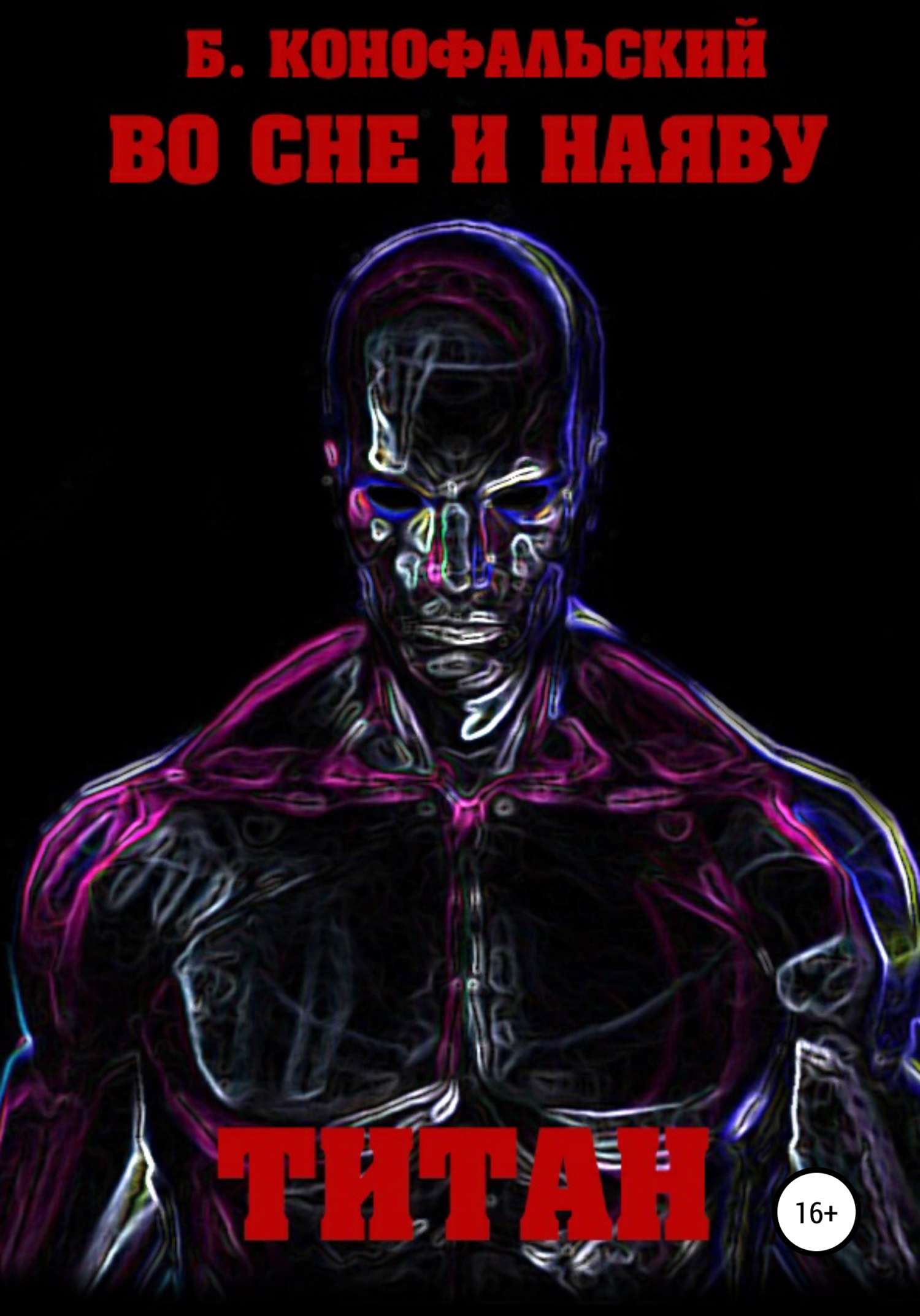первый ряд своих солдат и будет так биться, что опрокинет и погонит мужиков. А полковник собирается уехать куда-то. Бросить их?
Волков чуть тронул коня, подъехал к юноше и сказал тихо:
— Фейлинг, езжайте в обоз.
— Но господин, капитан велел держать мне знамя. — Так же тихо отвечал молодой человек.
— Где ваш брат?
— Не могу знать, как началось дело, так я потерял его.
— Отдайте знамя и езжайте в обоз, к капитану Пруффу, вы поступаете в его распоряжение.
— Я не брошу знамя, капитан мне доверил высокую честь…
— Уезжайте, — перебил его кавалер.
— Я не могу выполнить ваш приказ, — вдруг с непонятно откуда взявшейся твёрдостью, сказал юный Курт Фейлинг, — я не оставлю знамя и не оставлю капитан-лейтенанта.
— Вон! — заорал Волков указывая на запад пальцем латной перчатки, — вон отсюда! В обоз! Немедленно! Наглец, ещё смеет не выполнять мои приказы!
Юноша вжал голову в плечи, но не двинулся с места и знамени не отдал.
А полковник выполнения своего приказа не проконтролировал, дёрнул лошадь за повод, развернулся и поехал туда, откуда доносилась частая пальба. Он поехал к Броду. На шум пальбы, на облако серого порохового дыма, что медленно плыло над рекой и густыми прибрежными зарослями. Пороховой дым в безветренном воздухе прикрывал собой жуткую давку, что происходила на берегу. Мужичьё, пользуясь перевесом в людях, смяло ряды второй роты, теперь это была, скорее, куча людей, потерявших строй, но ещё отчаянно сопротивляющихся. Роту, несомненно, опрокинули бы, обратили в бегство, перебив всех, кто был в первых рядах, но мужикам мешали густые заросли и… капитан Роха.
Его люди не давали врагу даже попытаться охватить сбившуюся в кучу вторую роту «крыльями». В основном хамы пытались навалиться на правый фланг Рене. Но как только мужики пытались использовать своё численное преимущество на полную, как только офицеры противника строили на песке группу для охвата второй роты с фланга, тут же из леса выезжал Роха, сам израненный и на израненной лошади, с четырьмя десятками чёрных от пороховой копоти мушкетёров с ротмистром Вилли. Всего одним залпом, с пятнадцати, с двадцати шагов повалили десяток храбрых мужиков на прибрежный песок. Не меньше трёх десятков хамов уже валялись на берегу. Кто мёртвый, а кто ещё живой.
А стрелки, заряжаясь, на ходу уходили в лес, чтобы там огнём поддерживать то, что осталось от второй роты.
Волков, как только взглянул издали на ту кутерьму, что творилась у реки и в пролеске, сразу понял, Рене и его офицерам было далеко до того порядка, в котором сражалась рота Брюнхвальда.
Кавалер дал шпоры и рысью направил коня к реке, он собирался помочь роте, собирался сам стать в строй, чтобы люди, видя его, смогли достоять до сумерек. Он был уверен, что его появление, его красивое знамя, которое нес Максимилиан, приободрит вторую роту.
Так бы всё и случилось, но, когда они чуть съехали с дороги к броду, когда он уже собирался повернуть к роте Рене, он вдруг случайно глянул на тот берег реки. Первым делом увидел Волков группу людей на лошадях. Было их не меньше дюжины. Сомнений быть не могло, то были командиры мужиков.
И среди них выделялся один человек — сидел он на большом, гнедом и сильном коне, чрез кирасу его шла белая генеральская банда-перевязь от левого плеча к правому бедру, были у него рыжая окладистая борода и большой берет. Ещё один всадник что-то говорил ему, указывая на берег, а может, и на самого Волкова рукой, а тот, что был в генеральской перевязи, кивал, соглашаясь.
«А, так это ты… Ты и есть тот железнорукий? Тот, что встал на сторону взбесившихся хамов, на сторону еретиков, тот, что дерзил императору?»
На секунду ему показалось, что их взгляды даже встретились. Нет, не показалось кавалеру, он знал, что бородатый генерал смотрит на него. Не мог генерал не видеть трёх всадников под прекрасным бело-голубым флагом.
Но играть с врагом в «гляделки» долго у кавалера не вышло. От того, что он увидал дальше, сердце его похолодело. На том берегу, чуть ниже холма, на котором находился генерал и его свита, появилась колонна солдат. А перед солдатами ехал офицер на коне, за ним знаменосец с поганым флагом. Флаги у мужичья и вправду были погаными. Серые, словно замызганные. Ни один честный человек себе бы такого цвета не выбрал. Одно слово — холопы, глупцы. Шли мужики с барабаном, бодро спускались к броду, к переправе. А генерал с холма махал им рукой левой, наверное, железной, те радостно приветствовали его криками, разобрать которые Волков не мог из-за шлема и подшлемника.
Максимилиан, словно праздный юнец, не понимающий, что происходит, вдруг стал смеяться:
— Увалень, погляди на флаг хамов!
— Тряпка, — насмешливо констатировал Александр Гроссшвюлле. Ещё один болван, не видящий страшной опасности.
Да, флаг у мужиков был ужасен, был он какого-то даже не серого, а бурого цвета, словно грязный, с чёрным растоптанным башмаком, а у башмака того, как будто в пику всему хорошему, ещё и шнурок не завязан, так и тянется на весь стяг. Мерзкий флаг неправильных, вздумавших презреть законы божьи людей.
Но к дьяволу, к дьяволу их флаг, Волков сразу отвёл от тряпки глаза, колонна солдат во главе с бравым командиром начала спускаться к воде, к броду.
Выйди они на этот берег, доберись они сюда… То, что бы они не сделали, что бы не предприняли, хоть повернули бы на право к роте Рене или поднялись бы к дороге, выходя в тыл Брюнхвальду, дело было решено бы.
— Это разгром, — тихо произнёс кавалер, видя, как бравый офицер врага, не слезая с коня, въехал в воду. За ним тут же полезли в воду и два сержанта, а за ними и первый солдат. И второй, и другие солдаты. Хоть это и мужики, но при доспехе и при хорошем железе все.
Разгром. Да, похоже, дело к тому и шло, до заката ещё полчаса или час, не меньше, а они переправятся минут за десять-пятнадцать. Вылезут, построятся… И остаётся только гадать, кому ударят в тыл.
«И будут руки тебе целовать, и серебро нести, пока ты побеждаешь», — сами собой всплыли в сознании кавалера слова старого епископа.
«А как перестану побеждать? Что будет? Вот-вот… Сейчас эти сильные мужики перейдут в брод реку, выйдут на песок и прямо тут начнут строиться. И, построившись, одним ударом, наплевав на потери от выстрелов Рохи, сомнут роту Рене, разгонят её,