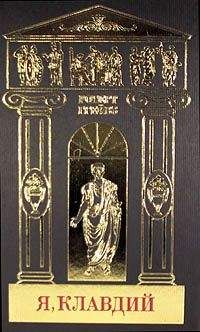Единственным из родственников Сеяна, избежавшим казни, был его брат, и произошло это по той странной причине, что он осмеял лысину Тиберия. На последнем ежегодном празднике в честь Флоры,[116] который он возглавлял, все церемонии исполнялись только лысыми людьми, а вечером гостей провожали из театра пять тысяч обритых наголо детей с факелами в руках. Прибывший на Капри сенатор доложил об этом Тиберию в присутствии Нервы, и, чтобы произвести на того хорошее впечатление, Тиберий сказал:
— Я прощаю его. Если Юлий Цезарь не обижался на шутки по поводу своей лысины, кто я, чтобы это делать?
Я полагаю, что, когда Сеян пал, Тиберий решил всем на удивление вновь проявить великодушие к его брату.
Но Елену, только за то, что она притворилась больной, наказали, выдав ее за Бланда, выскочку, дед которого, провинциальный всадник, приехал в Рим в качестве учителя риторики. Все сочли это низким поступком со стороны Тиберия, потому что Елена была его внучка и этим браком он обесчестил собственный род. Говорили, что не надо далеко ходить, чтобы встретить рабов среди предков Бланда.
Тиберий понял, что гвардейцы, которым он щедро заплатил по пятьдесят золотых монет на каждого вместо обещанных Макроном тридцати, его единственная надежная защита против народа и сената. Он сказал Калигуле:
— В Риме нет человека, который не сожрал бы меня с потрохами.
Гвардейцы, чтобы выказать преданность Тиберию, заявили, что их обидели, поручив не им, а городской страже вести Сеяна в тюрьму, и в знак протеста вышли из лагеря и принялись грабить пригороды Рима. Макрон дал им потешиться одну ночь, но тех, кто не вернулся в лагерь через два часа после того, как на рассвете протрубили сбор, пороли чуть не до смерти.
32 г. н. э.
Через некоторое время Тиберий объявил амнистию. Никого больше не станут судить за прежние политические связи с Сеяном, и если теперь, когда причиненное им зло полностью отомщено, кто-нибудь в память о его хороших деяниях вздумает надеть по нему траур, возражений против этого не будет. Многие так и сделали, думая, что угодят этим Тиберию, но они ошибались. Вскоре все они были привлечены к суду по самым бездоказательным обвинениям — чаще всего в кровосмешении — и казнены. Вы можете спросить, как случилось, что после этой резни вообще остался хоть один сенатор или всадник, — я отвечу: Тиберий поддерживал численный состав обоих сословий постоянным приемом новых членов. Чтобы попасть в сословие всадников, было достаточно родиться свободным, иметь хорошую репутацию и столько-то тысяч золотых; желающих было хоть отбавляй, несмотря на огромный вступительный взнос. Алчность Тиберия все росла: он требовал, чтобы богатые люди оставляли ему в наследство по крайней мере половину своей собственности; в случае, если они этого не делали, он объявлял завещание недействительным из-за какой-нибудь юридической ошибки и забирал себе все имущество; наследники не получали ничего. Он больше не тратил денег на общественные работы — даже не завершил постройку храма Августа — и урезал бесплатную раздачу зерна и суммы, выдаваемые из казны на устройство зрелищ. Он регулярно платил армии, и только. Что касается провинций, то Тиберий вообще больше ничего для них не делал, — раз налоги и дань поступали без перебоев, он даже не брал на себя труд назначить нового губернатора, когда старый умирал. Однажды к нему приехала депутация из Испании с жалобой на то, что у них уже четыре года нет губернатора, а штат старого губернатора бессовестно грабит страну, Тиберий сказал:
— Надеюсь, вы не просите у меня нового губернатора? Новый губернатор привезет с собой новый штат чиновников, и ваше положение станет еще хуже. Я расскажу вам одну историю. Однажды на поле боя лежал тяжело раненный воин и ждал, когда врач перевяжет ему рану, которую облепили мухи. Его товарищ, раненный не так тяжело, увидел мух и хотел их согнать. «Не надо! — вскричал первый. — Не тронь их. Эти мухи уже напились моей крови, и мне не так больно, как было сперва; если ты их сгонишь, их место займут те, что еще голодны, и мне придет конец».
Тиберий позволил парфянам опустошить Армению, задунайские племена вторглись на Балканы, а германцы пересекали Рейн и устраивали набеги на Францию. Под самыми необоснованными предлогами он конфисковал имущество ряда союзных вождей и царьков во Франции, Испании, Сирии и Греции. Он отнял у Вонона его сокровища (вы помните Вонона, того самого бывшего царя Армении, из-за которого Германик поссорился с Гнеем Пизоном?), отправив к нему своих агентов: те сперва помогли ему бежать из Киликии, куда его сослал Германик, а затем, нагнав в пути, убили.
Примерно в это время доносители стали обвинять богатых людей в том, что, давая ссуды, они запрашивают больше, чем им причитается, — по закону можно было брать лишь полтора процента с общей суммы. Правило это давно вышло из употребления, и вряд ли нашелся бы хоть один сенатор, который его не преступал. Но Тиберий подтвердил, что оно остается в силе. К нему отправилась депутация с просьбой дать полтора года, чтобы люди привели свои финансовые дела в соответствие с буквой закона, и Тиберии милостиво удовлетворил эту просьбу. В результате все сразу потребовали уплаты долгов, и это повлекло за собой большую нехватку ходячей монеты. А ведь вызвано повышение ссудного процента было прежде всего тем, что в императорской казне лежали мертвым грузом огромные запасы золота и серебра. Началась финансовая паника, цены на землю страшно упали. Надо было как-то облегчить положение. В конце концов Тиберий был вынужден ссудить банкирам без процентов миллион золотых из государственной казны, чтобы было что давать под земельные закладные. Тиберий и этого бы не сделал, если бы не Кокцей Нерва, у которого он все еще время от времени спрашивал совета; Нерва, живя на Капри, где от него тщательно скрывались оргии Тиберия и куда почти не доходили новости из Рима, был, пожалуй, единственным человеком в мире, верящим в великодушие и добродетель императора. Тот, например, объяснил Нерве (как рассказывал мне через несколько лет Калигула), что его размалеванные любимцы — бедные сиротки, которых он пожалел, и большинство из них не совсем нормальны, что объясняло их странный вид и поведение. Но неужели Нерва действительно был так наивен, чтобы этому поверить, или так близорук?
Чем меньше будет сказано о последних пяти годах правления Тиберия, тем лучше. Я не могу заставить себя писать в подробностях о Нероне, которого уморили голодом; или об Агриппине, сперва обрадовавшейся падению Сеяна, но затем увидевшей, что участь ее от этого не стала легче, и переставшей принимать пищу: какое-то время ее кормили насильно, но в конце концов дали умереть; или о Галле, который погиб от чахотки; или о Друзе, переведенном с дворцовой мансарды в темный подвал и однажды найденном мертвым — горло его было забито шерстью из матраса, который он грыз, не в силах стерпеть голодные муки. После их смерти Тиберий писал сенату радостные письма — об этом я не могу умолчать, — где обвинял Агриппину в государственной измене и в прелюбодеянии с Галлом и сожалел, что «под давлением государственных дел он все время откладывал суд над Галлом и тот умер до того, как его вина была доказана». Что до Друза, то Тиберий называл юношу самым распутным и коварным негодяем, какого он когда-либо знал. Тиберий велел гвардейскому офицеру, сторожившему Друза, прочитать во всеуслышание запись того, что Друз говорил в тюрьме. Никогда раньше в сенате не читали ничего вызывающего столь же тягостное чувство. Было ясно, что Друза били, мучили и оскорбляли не только сам этот офицер, но простые солдаты и рабы, что каждый день, отбирая крошку за крошкой, каплю за каплей, ему давали все меньше еды и питья. Тиберий даже велел огласить проклятия Друза, который исступленно, хотя и вполне связно, поносил его перед смертью. Друз обвинял Тиберия в алчности, вероломстве, бесстыдной порочности, в том, что он испытывал наслаждение, истязая людей, в убийстве Германика и Постума и целом ряде других преступлений (большую часть которых Тиберий действительно совершил, хотя ни об одном из них до сих пор не упоминалось публично); Друз молил богов, чтобы все неизмеримые страдания, которые Тиберий причинил другим, тяжким грузом давили на него день и ночь, наяву и во сне, чтобы он пал под их бременем в свой смертный час, а после смерти был приговорен к вечным мукам преисподним трибуналом. Сенаторы прерывали чтение восклицаниями, делая вид, будто они в ужасе от вероломства Друза, но за всеми их ахами и охами скрывалось удивление тем, что Тиберий по собственному почину обнажает перед всеми свои пороки и злодеяния. В то время Тиберий (как мне рассказал потом Калигула), терзаемый суеверными страхами и бессонницей, очень жалел сам себя и рассчитывал на искреннее сочувствие сенаторов. Он со слезами на глазах сказал Калигуле, что вынужден был убить его родных из-за их непомерного честолюбия и из-за того, что, по примеру Августа (он так и сказал: Августа, а не Ливии), он ставит спокойствие империи выше личных чувств. Калигула, не проявлявший никаких признаков горя или гнева из-за жестокого обращения Тиберия с его матерью и братьями, выразил старику свое соболезнование и тут же принялся рассказывать о новой форме разврата, о которой узнал недавно от каких-то сирийцев. Это был единственный способ подбодрить Тиберия, когда его начинала мучить совесть. Лепида, предавшая Друза, ненадолго его пережила. Ее обвинили в прелюбодеянии с рабом, и, не имея возможности отрицать свою вину (ее застали с ним в постели), она покончила жизнь самоубийством.