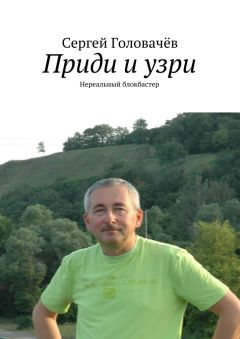Хавьер лежит сзади, с черными, сочащимися дырами вместо глаз. Нужно торопиться. Может быть, Хагендорф еще жив.
Проходя мимо окна, Маркус бросил взгляд на улицу.
Площадка перед домом превратилась в кровавую полынью. Большинство его товарищей лежали на земле – убитые или раненые. Против троих испанцев бились четверо, и они были обречены. Маркус увидел, как Якоб Крёнер бросил клинок и побежал прочь. Коротышка с кривыми ногами с удивительным проворством догнал его, сбил с ног и, размахнувшись, ударил мечом сверху вниз.
Где Кессадо? Жаль, что нельзя перерезать ему глотку… Сколько людей погибло по его вине… Ничего уже не исправить, не излечить…
Дверь мастерской распахнулась, на пороге показался Лопе – красное, блестящее от пота лицо, ворот рубахи разорван. Увидев перед собой Эрлиха, он изумленно открыл рот.
Маркус бросился на него.
Темнота.
Чернота, разбавленная потеками мутной желчи. Вязкая, безобразная. Медленно, не торопясь, перетекает по всему телу боль. Куда ей спешить? Она поселилась здесь надолго. Перед глазами, под закрытыми веками, плещется багровый туман, и в этом тумане тонут чужие лица и голоса, тонут воспоминания, тонет разум. Переплетаются корявые скользкие корни, и невидимые птицы взбивают крыльями густой, пропитанный опасностью воздух. А снизу, сквозь толщу болотной воды, выплывают, навсегда застревая в памяти, глаза, налитые страхом, и вырванные куски розовой плоти, и зазубренные лезвия, коротким движением останавливающие чью-то жизнь. Нужно открыть глаза, нужно вырваться из этого кошмара. Это сон, всего лишь ужасный сон, и достаточно небольшого усилия, чтобы избавиться от него. Нужно лишь протянуть руку и толкнуть закрытую дверь, и тогда сверкающий клинок света разрежет темноту пополам, изгонит ее прочь, принесет избавление.
Толкнуть закрытую дверь, сделать усилие… Господи, до чего же это тяжело… Еще чуть-чуть, еще совсем немного… И вот черная стена треснула, в ней пролегла острая, ослепительная полоска. Наконец-то…
Что здесь? Грубый деревянный потолок, паутина в углу. Где-то далеко, за мутной завесой, золотой свет, рассеченный темным распятием окна. Искривившиеся стены. Что-то белое. И возле кровати – возле кровати сидит человек. У него худое, испуганное лицо. Зачем он здесь? Сквозь муть, сквозь багровый туман, сквозь болотную воду доносятся его слова.
– Маркус… Маркус… Очнись…
– Ты… кто?
– Ты не узнаешь меня? Я – Гюнтер, Гюнтер Цинх. Госпожа Хойзингер сказала, что тебе стало лучше.
Маркус дернулся, пытаясь приподняться на кровати. Пустое. Тело не слушалось его. Ноги лежали неподвижно, как сгнившие бревна.
– Чей это… дом?
– Твой, твой, – поспешно проговорил Цинх. – Ты у себя дома. Все в порядке.
Маркус прикрыл глаза, глубоко вздохнул. Все в порядке… Значит, ничего не было? Сон? Люди, говорящие на чужом языке, кровавая свалка… Но откуда тогда эта боль, почему стало таким тяжелым его тело?
– С тобой все в порядке, – повторил Цинх. – Хотя сначала Рупрехт сказал, что ты не выживешь. Слишком много крови натекло.
На улице какой-то шум. Люди. Они идут куда-то. Это мирный шум, спокойный. Город в безопасности.
– Скажи… – прохрипел Маркус. – Я… я не калека? Рупрехт ничего не отрезал мне? Ничего не сломано? Мои кости целы?
Цинх улыбнулся, кивнул:
– Говорю же – все хорошо. Вывих вправили, раны – и на бедре, и в боку – перевязали.
– Но я не могу встать… Даже рукой трудно пошевелить… И туман перед глазами…
– Ты потерял много крови. Господи, это же истинное чудо, что тебе удалось уцелеть. Эти чертовы испанцы…
Он не договорил, опустил взгляд.
Перед глазами Маркуса будто коротко полыхнула молния. Испанцы… Значит – все правда. Кровь, унижение, смерть, вывороченные на дыбе руки. А перед ним сейчас сидит тот, по чьей вине все это произошло.
– Помоги мне сесть, – приказал он. Голос его окреп. Ему больно говорить, но он перетерпит эту боль. – Вот так. И вторую подушку подсунь под голову. А теперь расскажи все с самого начала. Как получилось, что этот испанец сумел проникнуть сюда? Сюда, в мой дом?!
Цинх тяжело вздохнул, посмотрел на Маркуса виновато, снова опустил глаза.
– Мы были у Восточных ворот. Я, Эрих Грёневальд и еще двое парней Хагендорфа, Макс и Герхард. Я не могу понять, как это вышло…
– Вы напились – ведь так? – тяжело произнес Эрлих. Голос его медленно наливался яростью. – Сели играть или кто-то задремал. Вы проворонили их, так?! Не лги мне, Гюнтер! Вы должны были заметить их, должны были услышать шаги, или звяканье железа, или что-то еще. Я никогда не поверю, что никто из вас не заметил этот чертов испанский отряд!!
Кровь отлила от его лица, и он без сил откинулся на подушку.
– Лжец, лжец, – повторял он, глядя в потолок. – Из-за тебя погибли люди… Из-за тебя чуть не погиб весь наш город…
– Клянусь, Маркус, – испуганно забормотал Цинх. – Мы не пили, и никто из нас не спал…
– И ты еще посмел явиться ко мне, сюда… Ты нарушил клятву, Гюнтер… Ты предал нас…
– Выслушай меня, умоляю! – Рот Цинха скривился; казалось, еще секунда, и он разрыдается. – Я клянусь тебе именем Спасителя, клянусь добрым именем моей семьи, клянусь всем, чем угодно: мы несли стражу как полагалось. Мы были внимательны. Поверь мне…
Губы Маркуса дернулись от злобной усмешки:
– Почему же тогда они подобрались к вам незамеченными? Как смогли? Перед воротами и на башне горят факелы, с двух сторон от дороги прокопаны волчьи ямы. Они что, по воздуху прилетели?! – Он вдруг закашлялся, стукнул себя кулаком в грудь.
– Я не знаю, Маркус, не знаю! – В голосе Цинха билось отчаяние. – Откуда мне знать? Может, они обернули оружие тряпками, а ямы обошли стороной и подобрались прямо к воротам… Они вынырнули точно из ниоткуда. В Герхарда – он был на башне – метнули нож, Макса проткнули шпагой. Клянусь тебе, Маркус, мы даже крикнуть не успели! Мне зажали рукой рот, ударили рукоятью пистолета в лицо, чтобы не сопротивлялся, разбили скулу… Я боялся, что лопнет глаз…
– Дальше, – презрительно бросил Маркус.
– Они оттащили нас в сторону от ворот, куда-то в тень. Старший…
– Кессадо?
– Да, он. Он спросил, в каком доме живет наш командир.
– И ты сразу выдал меня.
– Нет, что ты! Ни я, ни Эрих не произнесли ни слова. Кессадо сказал, что, если мы будем запираться и тратить его время, он перережет нам глотки, а затем запалит город с четырех сторон. Но мы молчали. Я надеялся, что нам удастся вырваться и позвать на помощь… Кессадо придвинул к нашим лицам факел, посмотрел внимательно. И в следующую секунду Эриху разрезали горло. Я видел, как он умирает, как стекленеют его глаза… Кессадо взял его рукой за волосы, запрокинул назад голову. Я видел, как разошлась черная полоса на его шее, как толчками хлынула кровь… «Я спрашиваю последний раз, – сказал мне Кессадо. – Сделаешь, как я говорю, – город уцелеет. Будешь молчать – мы все сровняем с землей». Что мне оставалось делать, Маркус? Я согласился, сказал, что покажу им дорогу… Потом он стал спрашивать меня про тот день, когда были убиты трое солдат. Я рассказал…
– Ты мог закричать.
– Я хотел… Они приставили пистолет к моему затылку. Стоило произнести хоть слово, и мне прострелили бы голову. Прости…
– Хватит ныть, – презрительно бросил Эрлих. – После этого ты привел их в мой дом?
Цинх торопливо кивнул.
– Они заткнули мне рот и толкали перед собой. Рукой я показывал путь. Они двигались бесшумно, как кошки. Мне было страшно, Маркус. Перед глазами была эта черная полоса на горле…
Цинх поежился на низеньком стуле, посмотрел в окно. С улицы доносился какой-то неясный шум.
* * *
На площади перед ратушей собиралась толпа. Люди шли со стороны церкви, со стороны Цехового дома, со стороны Мельничной улицы. Старики, мужчины, женщины, держащие за руку маленьких детей. Шли молча, без окликов и разговоров, и только шелест одежды и скрип мелких камней под ногами звучали в холодной и душной предгрозовой тишине.
Безветрие. Закрывшееся бесконечным дождевым облаком небо. Потускневшие стены домов. Пыль на шаркающих башмаках, пыль у подножия каштана на площади, пыль на скорченных, прижавшихся к земле сохлых травинках.
Идет, тяжело опираясь на палку, старый Фридрих Эшер. Рядом с ним, торжествующе глядя в пустоту, ступает его жена Клара. Торопится, переставляя кривые ноги, Георг Крёнер. Опустив седую голову, опираясь на руку старшего сына, медленно вышагивает Курт Грёневальд, и следом за ним – скособоченный, трущий кулаком разъеденные плачем глаза, маленький Густав Шлейс.
Люди идут по улицам, и улицы сходятся к площади, словно ручейки, стекающие к лесному озеру.
Кто-то закашлялся, кто-то сдавленно всхлипнул, кто-то положил ладонь на плечо соседа. Ни слова, ни улыбки, ни шепота. Только молчание. Молчание, понятное всем.
Не сговариваясь, люди выстраиваются ровными, полукруглыми рядами в дальнем конце площади.