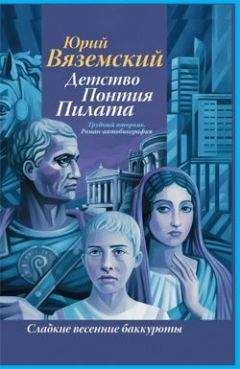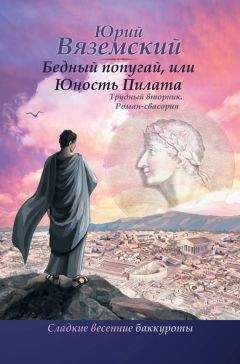Мужчины пили неразбавленное привозное вино, а женщины, как я понял, – пшеничную брагу.
Рыбак, я видел, лишь окунул губы в чашу, но не сделал глотка. И я последовал его примеру.
Пьянели быстро, как мужчины, так и женщины.
И вот какая-то сильно подвыпившая женщина вдруг вскочила с циновки, встала во весь рост под навесом и принялась кричать, указывая рукой на мужчину, сидевшего напротив. Я плохо понимал, о чем она кричит. Я понял лишь, что человек, на которого она указывает, ее муж.
«За что она его ругает?» – поинтересовался я у Рыбака.
«Она его восхваляет», – ответил мой наставник, отрезая второе ухо у кабаньей головы.
Женщина кончила кричать, села на подстилку. И тут же вскочила со своего места вторая женщина. Она не кричала. Она пела низким грудным голосом. И тоже указывала рукой – на другого мужчину, сидевшего напротив нее.
Я обернулся к Рыбаку, чтобы спросить. Но вопрос, как говорится, умер у меня в горле.
На торце стола, рядом с «богиней» сидел теперь не усатый и бородатый «Леман», а безусый, нежно-румяный, лучисто-голубоглазый и светло-кудрявый юноша; – прости мне, Луций, эти почти гомеровские эпитеты, ибо, клянусь Каллиопой, юноша этот был похож на греческое божество: на фиванского Вакха или на юного Аполлона.
«Ну что таращишься? – услышал я над ухом насмешливый шепот Рыбака. – Леман уже скрылся в озере. А юноша – его заместитель. Ты его сейчас будешь сжигать».
Я недоверчиво покосился на своего учителя. Но тот уж серьезно добавил:
«Женщины, которые тебя так заинтересовали, соревнуются, восхваляя своих мужей. Та, что победит, до следующего Самайна будет считаться лучшей женой в деревне… Ну, хватит болтать. Вставай. Настал твой черед, охотник за силой».
Мы вышли из-за стола и обогнули бруидну, бревенчатую хижину, которой завершался пиршественный навес.
Из кустов выскочил незнакомый гельвет с горящим факелом в руках и подбежал к Рыбаку. Но тот покачал головой и указал на меня.
Тогда человек с факелом стал что-то быстро и возбужденно шептать моему наставнику на ухо.
Рыбак слушал, сердито глядя то на гельвета, то на меня. Затем взял факел, взмахом руки отослал человека и, повернувшись ко мне, сказал, как мне показалось, растерянно и обиженно:
«Представление отменяется. Я сам подожгу бруидну».
С этими словами он стал обносить факелом закладные бревна хижины. Те тотчас вспыхнули, словно облитые горючей смесью.
Что было дальше, мне не удалось проследить. Потому что, едва хижина загорелась, Рыбак обернулся ко мне и сурово скомандовал:
«Тебе нельзя здесь находиться. Иди домой. Договорись с матерью, что этой ночью уйдешь из дому. За час до полуночи жди меня у Южных ворот. Всё! Беги. Чем быстрее добежишь до дома, тем лучше для тебя и для меня!»
Я, разумеется, подчинился.
Не то чтобы я бежал. Но шел я быстро и не оглядывался.
XIII. К Южным воротам я пришел приблизительно за полчаса до назначенного срока.
В проеме ворот я увидел одинокого солдата. Прислонившись к стене и опершись на алебарду, он стоя дремал и тихо посапывал.
Как только я подошел к воротам, у меня за спиной угрожающе залаяла собака. Я обернулся, но никакой собаки поблизости от себя не увидел.
Я глянул на часового, ожидая, что тот вздрогнет и проснется от громкого лая. Но тот, что называется, и бровью не повел. Так же мерно и грустно посапывал.
Лай скоро прекратился.
Рыбак пришел, как я думаю, за час до полуночи. И тотчас вновь дала о себе знать собака. На этот раз она зарычала. Где-то совсем близко. Я резко обернулся, боясь, что она сзади укусит меня за ногу. И снова – никакой собаки, хотя улица была ярко освещена, потому что луна была на северо-востоке.
«Что дергаешься?» – удивленно спросил Рыбак. Он был в своем обычном сером плаще.
«Какая-то собака лает на меня и рычит. А где она – я не вижу», – ответил я.
Еще с большим удивлением Рыбак медленно огляделся по сторонам, потом пристально глянул на меня и пожал плечами. Золотого колеса-солнца на его плаще не было; плащ был застегнут двумя темными и простыми пряжками.
Пройдя мимо спящего стражника, мы вышли из ворот, спустились на магистральную дорогу и пошли по ней в сторону Генавы.
С магистральной дороги мы свернули на проселок – тот самый, который вел к гельветскому кладбищу и святилищу Вауды.
«Куда мы идем?» – спросил я.
И только я задал вопрос, слева от меня, за деревьями, завыла собака.
«Слышал?» – тут же спросил я.
Рыбак удивленно и, как мне показалось, боязливо на меня покосился и спросил в свою очередь:
«Мне на какой вопрос отвечать: на первый или на второй?»
«Собака воет. Ты слышал?»
«Не слышал», – ответил Рыбак, пристально на меня глядя.
«Странно, – сказал я. – Я уже третий раз слышу собаку. А кроме меня никто не слышит».
Рыбак долго и пристально изучал мое лицо. Потом обернулся на луну, которая светила над озером. Потом стал смотреть себе под ноги и сказал:
«Мы идем к Пиле».
«А кто это?»
«Она захотела тебя видеть… Она запретила тебе поджигать хижину… Она велела, чтобы сегодня в полночь я привел тебя к ней…» – говорил Рыбак и каждую фразу произносил как бы все более и более удивленно.
«Кто такая Пила?» – Я повторил свой вопрос.
«Гельветы называют ее ватессой. Бруктеры – веледой», – ответил Рыбак и замолчал.
Исчерпывающий ответ, не правда ли, милый Луций?
И я решил больше ничего не спрашивать у Рыбака.
Мы уже приблизились к кладбищу, когда Рыбак сам заговорил, глухо и отрывисто:
«Только не пугайся ее. Она – добрая… И совершенно слепая… Одни говорят: римляне ее ослепили. Якобы она видела то, что видеть не следовало… Другие рассказывают: когда маленькой девочкой она побежала купаться на озеро, в нее ударила молния… Сама она утверждает, что слепой родилась. Вернее, когда ее рожали, у нее сначала вытек один глаз, потом – другой…»
Дойдя до кладбища, мы не свернули направо, к святилищу Вауды, а, слева обогнув могилы, вышли к низкой и круглой земляной хижине. Мне показалось, что хижина эта целиком выложена из дерна.
В нее мы вошли с юга, через узкий проход, прикрытый рогожей.
В центре горел очаг. На высокой железной подставке стоял большой медный котел, в котором что-то кипело и булькало. Слева, у западной стены – вернее, у западного полукружья – я увидел одинокую постель. Справа, на востоке, между двумя полками, на которых была расставлена глиняная посуда и медная утварь, стояло высокое и широкое кресло. На нем неподвижно восседала высокая, полнотелая, совершенно седая женщина, одетая в белую длинную рубаху с рукавами до самых запястий.
Меня поразила удивительная чистота помещения. Представь себе, ни малейшей затхлости, которая обычно бывает в земляных жилищах. Пол тщательно подметен и посыпан белым ручейным песком. Камни у очага – все одинакового размера, аккуратно подогнаны друг к дружке и словно розовые. Медный котел, хотя со всех сторон его лизало пламя, блестел и сверкал, как в лавке жестянщика. И так же светилась и блестела посуда. И белой, кипенно-359
белой была рубаха на женщине. И пахло в хижине медом и тмином. И даже дым от горящего очага, как мне показалось, поднимался к отверстию в крыше ровным, аккуратным и кудрявым беленьким столбиком.
Всё это, однако, я успел разглядеть и оценить лишь потом. Ибо, едва мы вступили в хижину, женщина спросила низким, мужским почти голосом:
«Что, бельг, привел мне своего заику?»
«Доброй луны тебе, Пила, – почтительно приветствовал хозяйку мой наставник и возразил: – Но он теперь не заика. Я его вылечил, с помощью Эпоны».
Женщина повернула к нам голову. И я увидел ее лицо. Глаз у нее совершенно не было – темные, пустые глазницы. Но кожа на лице была гладкой, светлой и розовой, как у гельветской девушки. Так что, если бы не седые волосы, старухой ее никак нельзя было назвать. И стать, Луций! Какая осанка! Прямо-таки царственный поворот головы!
Она, как мне показалось, пристально на меня смотрела. И чтоб не видеть ее страшные пустые глазницы, тут-то я и стал разглядывать помещение: очаг, пол, полки с посудой, ложе у западной стены, ну и так далее.
Я всё это хорошенько успел разглядеть, потому что молчание длилось долго.
Наконец женщина велела:
«Поставь его напротив меня».
Рыбак поставил меня спиной к очагу и лицом к женщине.
«Нет, чуть правее поставь. И окно открой, чтобы мне было виднее».
Рыбак отодвинул меня к северной стене. Затем подошел к Пиле и над ее головой вынул кусок не то дерна, не то торфа.
«Вот теперь хорошо. Теперь луна его осветила», – сказала Пила.
В отверстии никакой луны не было. Было несколько звезд и неподвижное серое облако.
Тут сначала за стеной словно звякнула цепью, зевнула и вздохнула собака.
А потом, глядя в мою сторону, Пила заговорила.
(Говорила она на таком четком и ясном гельветском языке, что я понимал почти каждое слово. Так что весь разговор с самого начала могу передать тебе в точности.)