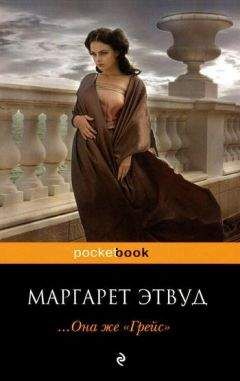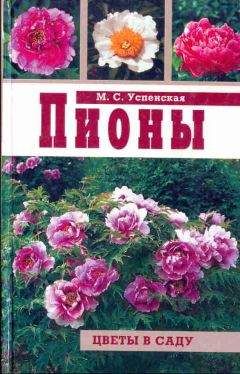— Насколько я помню, нечто подобное описывает Пюисегюр,[81] — говорит Саймон. — Возможно, это случай, известный под названием dedoublement: находясь в сомнамбулическом трансе, пациент проявляет совершенно иную личность, нежели в бодрствующем состоянии, причем обе эти половинки ничего друг о друге не знают.
— Джентльмены, в это крайне трудно поверить, — подхватывает Верринджер, — но иногда происходят и более удивительные вещи.
— Природа порой производит на свет тела с двумя головами, — добавляет Дюпон. — Так почему же один мозг не может вмещать в себя как бы двух людей? Возможно, есть примеры не только чередующихся состояний сознания, как утверждает Пюисегюр, но и двух различных личностей, которые могут сосуществовать в одном и том же теле, но при этом обладать совершенно разными воспоминаниями и на практике являться двумя отдельными индивидами. Если, конечно, вы примете спорную точку зрения о том, что мы — это наши воспоминания.
— Возможно, — говорит Саймон, — мы являемся преимущественно нашими забытыми воспоминаниями.
— Если это так, — восклицает преподобный отец Верринджер, — то что же происходит с душой? Ведь мы же, право, не лоскутные одеяла! Это ужасающая мысль, и если бы она соответствовала истине, нам пришлось бы усомниться во всех нынешних представлениях о нравственной ответственности, да и о самой нравственности.
— Так или иначе, второй голос отличался грубостью, — отмечает Саймон.
— Однако не был лишен определенной логики, — сухо добавляет Верринджер, — и способности видеть в темноте.
Саймон вспоминает горячую руку Лидии и неожиданно для себя краснеет. В эту минуту он желает, чтобы Верринджер провалился сквозь землю.
— Ежели существует две личности, то почему не может существовать двух душ? — спрашивает Дюпон. — Если, конечно, сюда вообще следует приплетать душу. Коль уж на то пошло, душ или личностей может быть даже три. Вспомните Троицу.
— Доктор Джордан, — говорит преподобный Верринджер, не обращая внимания на эту теологическую шпильку, — что вы об этом скажете в своем отчете? Ведь использованные сегодня методы вряд ли являются общепринятыми с медицинской точки зрения.
Мне нужно очень хорошо обдумать свою позицию, — отвечает Саймон. — Но вы же понимаете, что, если принять исходную посылку доктора Дюпона, Грейс Маркс будет оправдана.
— Признание такой возможности потребовало бы глубокой веры, — произносит преподобный Верринджер. И я сам буду молиться о том, чтобы нам хватило для этого сил, поскольку я всегда верил в невиновность Грейс или, скорее, надеялся на это, хоть и должен признаться, что сегодня был отчасти потрясен. Но если мы явились очевидцами естественного феномена, то смеем ли подвергать его сомнению? Причина всех явлений кроется в Боге, и вероятно, у Него есть свои мотивы, хотя смертным очам они и представляются неисповедимыми.
Саймон возвращается домой один. Ночь ясная и теплая, луна почти полная и заключена в туманный ореол. В воздухе пахнет свежескошенной травой и конским навозом, к которому примешивается запах собачьего кала.
Весь вечер Саймон сохранял внешнее самообладание, но сейчас его мозг закипает, и он чувствует себя каштаном, жарящимся на плите, или зверьком с загоревшейся шерстью. В голове у него звучат сдавленные вопли, там царит какая-то беспорядочная, безумная суматоха, борьба и метание из стороны в сторону. Что же произошло в библиотеке? Находилась ли Грейс действительно в трансе или же она ломала комедию и смеялась в кулак? Он помнит все, что видел и слышал, но, быть может, это всего лишь обман чувств, который он просто не в силах раскрыть?
Если он изложит увиденное в своем отчете и если этот отчет будет присовокуплен к прошению, поданному в защиту Грейс Маркс, Саймон тем самым подпишет себе приговор. Подобные прошения читают служители правосудия и иже с ними: трезвые, практичные люди, требующие убедительных доказательств. Если отчет будет обнародован, занесен в протокол и получит широкое хождение, Саймон тотчас же превратится в посмешище, особенно среди представителей официальной медицины. Тогда можно будет поставить крест на планах открытия собственной клиники, ведь кто же станет субсидировать подобное учреждение, зная, что руководить им будет какой-то помешанный, верящий в замогильные голоса?
Составление отчета, который нужен Верринджеру, было бы равносильно лжесвидетельству. Лучше вообще ничего не писать, однако от Верринджера так просто не отделаешься. Беда в том, что, положа руку на сердце, Саймон ничего не может утверждать с уверенностью, поскольку истина от него ускользает. Или, точнее, ускользает от него сама Грейс. Она плавно движется впереди, вне пределов его досягаемости, и оглядывается, чтобы посмотреть, не отстает ли он.
Внезапно Саймон перестает о ней думать и обращается мыслями к Рэчел. Хоть за нее-то он в состоянии ухватиться. Уж она-то не выскользнет у него из рук.
В доме темно: наверное, Рэчел спит. Саймон не желает ее видеть, не хочет ее сегодня вечером — напротив, мысль о ее напряженном теле цвета кости, об исходящем от него запахе камфары и увядших фиалок вызывает у него легкое отвращение, но он знает, что все изменится, едва он переступит порог. Он станет на цыпочках подниматься по лестнице, стараясь с нею не встретиться. Потом обернется, войдет в ее комнату и бесцеремонно ее разбудит. Сегодня Саймон ударит ее, как она и просила: раньше он никогда этого не делал, это будет в диковинку. Ему хочется наказать ее за то, что она привязала его к себе. Заставить ее плакать, хоть и не слишком громко, не то услышит Дора и повсюду растрезвонит. Удивительно, что она не услышала их раньше: ведь они становятся все беспечнее.
Саймон знает, что репертуар Рэчел близится к концу, и когда она не сможет больше ничего предложить, все кончится. Но что же произойдет перед самым концом? Да и сам конец — какую форму он примет? Должно же быть какое-то завершение, некий финал. Невозможно себе представить. Быть может, сегодня ему следовало бы воздержаться.
Он отпирает дверь своим ключом и как можно бесшумнее ее открывает. Рэчел ждет его в темном холле, одетая в плоеный пеньюар, тускло мерцающий в лунном свете. Она обнимает его и тащит внутрь, прижимаясь к нему всем телом. Она дрожит. Ему хочется смахнуть ее, как паутину с лица или как густой, липкий студень. Вместо этого он ее целует. Лицо у нее мокрое: она плакала. Она и сейчас еще плачет.
— Тише, — шепчет он, гладя ее по волосам. — Тише, Рэчел.
Именно этого он хотел от Грейс — чтобы она трепетала и хваталась за него: Саймон довольно часто себе это представлял, хотя, как он теперь понимает, в сомнительно ходульном исполнении. Подобные сцены всегда были умело освещены, а жесты, — включая его собственные, — томны, грациозны и исполнены роскошного трепета, словно балетные мизансцены смерти. Однако умиляющие страдания оказались гораздо менее привлекательными, когда ему пришлось столкнуться с ними в действительности, лицом к лицу. Одно дело — утирать слезы юной лани, и совсем другое — утирать нос оленухе. Он роется в кармане — где же носовой платок?
— Он возвращается, — пронзительным шепотом говорит Рэчел. — Я получила от него письмо.
Саймон вначале не понимает, о ком речь. Ну конечно же, о майоре. В своем воображении Саймон обрек его на некий безудержный разгул, а потом и вовсе о нем забыл.
— Что же с нами будет? — вздыхает она. Мелодраматичность фразы не уменьшает глубины чувства, по крайней мере — для нее.
— Когда? — шепотом спрашивает Саймон.
— Он написал мне письмо, — рыдает Рэчел. — Говорит, что я должна его простить. Дескать, он образумился, хочет начать новую жизнь — он всегда так говорит. Теперь я тебя потеряю — это невыносимо!
Ее плечи трясутся, она судорожно сжимает его в объятиях.
— Когда он приезжает? — снова спрашивает Саймон. Сцена, которую он представлял себе с приятно щекочущим чувством страха: сам он резвится с Рэчел, а майор вырастает на пороге, полный негодования и с обнаженной шпагой в руке, — встает у него перед глазами с удвоенной яркостью.
— Через два дня, — отвечает Рэчел прерывающимся голосом. — Послезавтра вечером. На поезде.
— Пошли, — говорит Саймон.
Он ведет ее через холл к ее спальне. Теперь, когда он знает, что избавление от нее не только возможно, но и неизбежно, Рэчел еще сильнее его возбуждает. Зная его наклонности, она зажгла свечу. У них остались считаные часы, не за горами разоблачение, и говорят, что паника и страх учащают сердцебиение и разжигают страсть. Про себя он мысленно отмечает: правду говорят, и, возможно, в последний раз опрокидывает ее навзничь на кровать и грузно опускается сверху, роясь в нескольких слоях ее одежды.