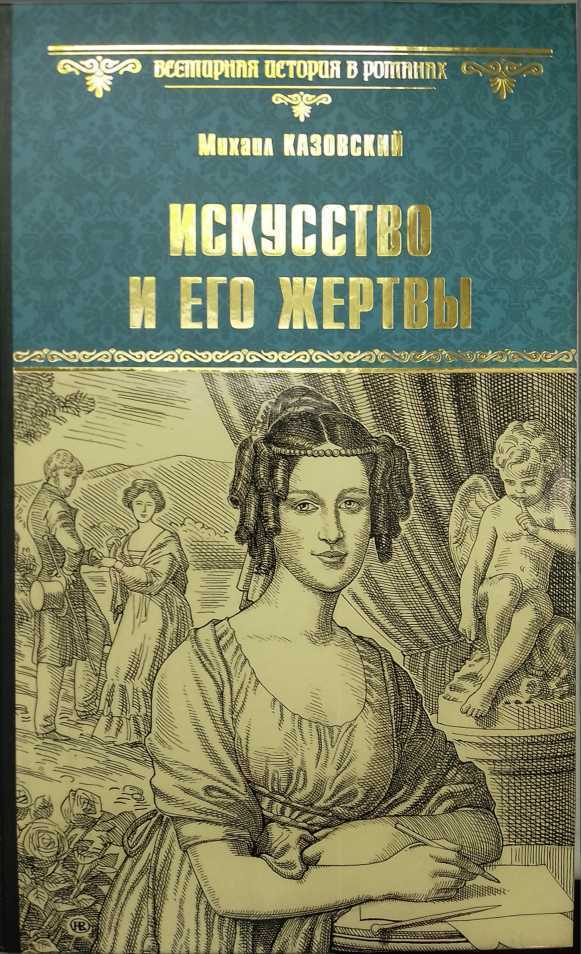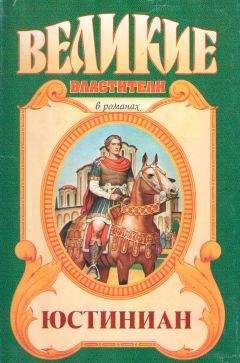подкармливаю, иногда вывожу гулять, он хотя и худ, как громоотвод, но достаточно крепок и не болеет.
В 1838 году Анна Керн была еще очень хороша — и не скажешь, что ей под сорок, кожа гладкая, белая, губки сочные, на щеках премилые ямочки, а в глазах искорки. Голос мягкий, вкрадчивый, а смех звонкий. Что еще нужно молодому кадету, плоть которого тоскует по женской ласке? Александр Марков-Виноградский оказался без ума от своей очаровательной троюродной сестры. Та, конечно, понимала его к ней чувства, это ей нравилось, и она с ним играла, как кошка с мышкой.
Поиграла — и заигралась.
Пылкая натура мадам Керн сделала свое дело. Не прошло и полугода, как они оказались любовниками. "Что мы делаем?!" — восклицала Анна Петровна, утопая в его объятиях. "Обожаю! — бормотал он. — Ты моя богиня!" Саша действительно ее боготворил. Согласитесь: быть богиней в чьих-то глазах лестно и приятно.
Может, эта интрижка так и осталась бы интрижкой, если бы не выяснилось, что любвеобильная дама в очередной раз беременна. Чувствуя себя скверно, пролежала почти все девять месяцев. Появившийся на свет 28 апреля 1839 года мальчик, окрещенный в честь Пушкина Александром, был болезнен и хил. Но выжил.
Катя, узнав о новости, сообщила отцу:
— Слышали? Мама снова родила.
Генерал глухо выругался по-французски:
— Merde! Скоро сорок, а никак не угомонится.
— Говорят, нуждается. Я ей подарила сто рублей.
— Дело, конечно, твое, дочурка — все-таки твоя мать, хоть и непутевая. Но не слишком транжирь деньги, поднесенные тебе императором.
— Там еще прилично осталось.
— Лично я помогать ей не собираюсь. Так позорит нашу фамилию!
— Развестись не желаете?
— Этого еще не хватало — затевать развод на старости лет. Оказаться в очередной раз посмешищем. Нет, увы, Анна Петровна — крест мой до конца жизни.
Той весною же Катя съездила на выпускной бал своего Института благородных девиц. Повидала многих преподавателей, поболтала с классными дамами и некоторыми старыми подружками. А помощница начальницы заведения — Мария Павловна Леонтьева — предложила ей пойти к ним работать классной дамой. Мадемуазель Керн даже растерялась:
— Уж не знаю, право. Да смогу ли я?
— И сомнений быть не может. Ты такая умница.
— Да захочет ли начальница меня взять?
— Я поговорю с нею. Юлия Федоровна сильно хворает в последний год и переложила на меня многие обязанности. В общем, я уверена, что поддержит.
— А мой папенька? Он ведь тоже в весьма преклонных годах. Может не отпустить от себя.
— Пустяки, душенька. Дома станешь бывать по выходным. И потом вы живете недалеко, и при случае доберешься за четверть часа.
— Вы меня смутили. Я должна взвесить все как следует.
Да, соблазн был велик: превратиться из сиделки, няньки собственного отца в самостоятельную фигуру. Получить интересное занятие в жизни. Не сидеть дома безвылазно неделями. Зарабатывать хоть и небольшие, но необходимые деньги, чтобы сохранить приданое и не спрашивать каждый раз у папеньки на мелкие расходы. Помогать матери с маленьким ребенком в меру сил. Наконец, получить не вызывающий подозрений у отца предлог подружиться с четой Стунеевых. Ведь Мария Ивановна Стунеева — это сестра Михаила Ивановича Глинки… А они не виделись больше года… И хотелось бы явиться ему "как мимолетное виденье"… Он великий человек и необычайно ей нравится…
В общем, дала согласие. Ермолай Федорович тоже, поворчав и посомневавшись, возражать не стал. А зато оказалась против начальница Института — Юлия Федоровна Адлерберг, заявив, что дочери "этой Вавилонской блудницы Керн" не место в классных дамах. Аргументы Марии Павловны Леонтьевой ("дочь за мать не отвечает, и Екатерина Ермолаевна — совершенно другой человек") не подействовали. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы старая начальница, бывшая еще наставницей маленьких детей императора Павла Петровича — Михаила и Николая (ставшего теперь Николаем I), не покинула сей бренный мир. А Леонтьеву не назначили на ее место. Но ее назначили, и она тут же приняла в Институт на работу Катю Керн. 1 октября 1839 года стал ее первым трудовым днем.
Михаил Иванович сильно изменился за эти два года: в волосах появилось много седины, под глазами — мешочки, пролегли морщины от носа к подбородку. Часто пребывал в состоянии недовольства самим собой. С новой оперой дело не клеилось, не было душевного взлета, вдохновения, посещавшего его в дни работы над "Иваном Сусаниным". Ведь тогда продолжался их с Машей медовый месяц, молодая игривая женщина будоражила его кровь, жизнь казалась наполненной светлыми перспективами. А теперь? Дома — одна тоска. Маша постоянно тянет из него деньги. Сколько ни заработаешь — все мало. Подавай ей четверку лошадей вместо пары и новую карету. О нарядах, украшениях и говорить нечего. А несносная теща всюду лезет. Чуть что — сразу подает голос. Михаил Иванович, мол, такой непрактичный, вечно в облаках витает и не думает о потребностях молодой жены. А жена о потребностях мужа думает? Это, как видно, волновало лишь его самого.
И на службе в Капелле все непросто складывалось. Флигель-адъютант Львов непрерывно сетовал, что не видит в Глинке подлинного рвения. Деньги получает, а отдачи нет. Надо влить в Капеллу свежую кровь, обновить состав. Еле-еле выгнал композитора из столицы и подвиг на поездку в Малороссию — набирать одаренных певчих. Михаил Иванович путешествовал всю весну и лето 1839 года — посетил Полтаву, Переяславль, Чернигов, Харьков. И привез в Петербург несколько уникальных талантов, в том числе Семена Гулак-Артемовского с удивительной красоты баритоном.
Украина как-то взбодрила Глинку, воздух ее степей, ароматный, пахнущий цветущими травами, абрикосы и дыни, груши и арбузы, жареная, только что выловленная рыбка, исходящая соком, тающая во рту, разумеется, борщ с пампушками и вареники с вишнями, и (скрывать не будем) крепкая горилка, принесенная из погреба в запотевших бутылях, да под сало с розовыми прожилками, да на теплом ржаном хлебушке, — все это вдохнуло в него богатырские силы. Уж не говоря о пьянящих, словно горилка, чернобровых и чернооких малороссияночках… Впрочем, тс-с, молчок, реноме женатого человека портить нам негоже. Что было — то было и быльем поросло.
В Петербурге как-то сразу сдвинулась с места опера "Руслан и Людмила". То, что не успевал сочинить Ширков, дополняли Кукольник и Маркевич. Глинка повеселел, ожил. Подарил жене дорогие сережки. Впрочем, та не оценила, только носик сморщила: мол, своим девкам в Малороссии покупал такие же? Он обиделся, перестал с ней общаться.
Получил записку от сестры Маши — приглашала в гости. Михаил Иванович с ней не виделся больше полугода и решил заехать.