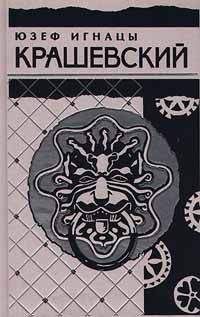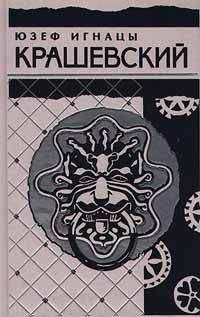— Говорите же, любезный маршалек, говорите, рубите меня прямо, — перебил его граф, у которого глаза горели беспокойством и гневом. — Я вижу, что Сильван запутался, а я предостерегал его, я предсказывал ему; я чувствовал, что тут что-то подозрительное, что этот барон смахивает на жида.
— О бароне Гормейере я услышал первый раз в Вене, — начал медленно Фарурей. — Он был в то время каким-то чиновником при дворе и по особенной протекции получил титул барона. Откуда он? Никто не знал; верно только то, что он долгое время занимался поставкою к австрийскому двору драгоценных камней.
— Торгаш, ювелир! — крикнул граф, всплеснув руками.
— Что-то в этом роде, что-то в этом роде, — сказал Фарурей. — Он ездил по Европе, скупал дорогие каменья и, так как отлично понимал в этом толк, то много и зарабатывал. Но этим, конечно, баронства бы не добился.
— Чем же он приобрел его, — воскликнул граф, — этот проклятый жид?
— Я ведь не говорил, что он был жид, — заметил Фарурей, — потому что это, может быть, сплетни.
— Но ведь эти сплетни имеют основание? — воскликнул граф в отчаянии.
— О ком же не злословят! — утешал его Фарурей.
Сигизмунд-Август схватился за голову, закусив губы и закрывая глаза, упал на диван.
— Говорите уже все, маршалек, говорите, ничто меня не тронет теперь…
— Этот барон Гормейер имел большие связи; прислуживался сильно и как-то понемногу втерся в лучшее общество, женился.
— На ком? — спросил граф.
— Не знаю, на какой-то дочери банкира.
— Жид на жидовке, великолепно! — сказал Сигизмунд-Август, скрипнув зубами. — Ну, и что же потом? Явились жиденята!
— Он овдовел, но у него осталась дочь; все соглашались в том, что это было чудо красоты; ей дали заботливейшее воспитание. Вся Вена бегала за хорошенькой Эвелиной.
— И она вышла замуж?
— Нет, она не вышла замуж, — сказал холодно Фарурей, — она никогда не была замужем.
— Это что же? Это что-то новое! Маршалек, заклинаю вас, не цедите мне по словечку, говорите скоро и ясно.
— Ее увидал князь Ф…, она понравилась ему, он полюбил ее, и…
— И что же?..
— И ей дали потом титул графини фон…
— Этого только недоставало!..
— Заметили, однако же, скоро, что любовь стала угрожать будущности князя; его хотели женить, он не хотел и слушать об этом, весь погряз в своей привязанности, он имел даже намерение, как говорят, жениться на чудной красавице Эвелине, которая любила его до безумия и которую он обожал до безумия. Прибегли к энергическим мерам, чтобы их разлучить. Князя отправили в Италию, а графине приказано удалиться из Вены, сначала во Львов, потом за границу, и назначено двадцать тысяч пожизненной пенсии.
Дендера, слушая это, сидел бледный, беспрестанно хватаясь за голову.
— Это смерть! Это погибель! — говорил он прерывающимся голосом. — Это унижение, это падение! Это обман! Я не допущу этого позора, я лечу, разведу их; это не может состояться! А, Сильван, Сильван! Где знание людей, чтобы, несмотря на мои предостережения, позволить так увлечь себя и обмануть?..
Граф помолчал с минуту и потом вдруг прибавил:
— Не хочу его видеть, отрекаюсь от него навеки! Но скажите же, маршалек, так это человек богатый?
— Вовсе нет, если уж хотите знать всю правду, — сказал Фарурей, — Гормейер был когда-то богат, но несчастная страсть к картам поглотила все; дочь принуждена смотреть, чтобы он вконец не разорился. Все их имущество составляет эта пенсия, великолепнейшее серебро — подарок князя и драгоценности, оставшиеся от торговли или от того же князя.
Дендера был уничтожен.
— Извините, граф, — прибавил Фарурей, — что я сообщил вам такие неприятные известия, но что делать? Вы хотели знать всю правду, я не мог соврать перед вами. Скажу только еще то, что женитьба эта не такое, однако же, зло, как кажется… Перебравшись в Галицию, можно извлечь из него выгоды.
Граф ничего не ответил, но видно было, как он страдал; он рвал на себе платье и метался как сумасшедший.
— Благодарю, благодарю! — воскликнул он наконец с особенным ударением, отыскивая блестящими глазами и конвульсивными движениями перо и чернильницу, звоня и роясь на столике.
— Еще есть время; надо помешать этому, — продолжал он, — я пошлю, поеду, расстрою. Вот несчастье! Вот удар, какой не поражал нашего рода в продолжение двухсот лет! Я их знать не хочу, я отрекаюсь от Сильвана, это глупец!
Фарурей ходил молча.
— Наконец, — сказал он через минуту, — хоть все сказанное мною заимствовано из вернейших источников, кто знает, может быть, недоброжелательство и прибавило что-нибудь? Меня поразило во время пребывания моего в Вене чудесное личико Эвелины. О, ведь и прекрасна же она, как ангел! По этому-то поводу я и узнал эту оригинальную историю! Чудеса рассказывали о ее привязанности к князю! После разлуки с ним, она чуть не умерла с отчаяния.
— Превосходная история! Превосходная жена! — восклицал Дендера. — Вот попались-то мы! И в приданое ошейник, сундук серебра и пожизненная пенсия. Черт бы их побрал! Ха, ха!
Граф смеялся, но смеялся с бешеной злобой. В эту минуту, словно нарочно, вошел слуга и на серебряном подносе подал только что привезенную почту. Дрожащею рукою перебрал ее Дендера, разорвал конверт, на котором узнал почерк Сильвана и упал в кресло, вскрикнув:
— Свершилось! Женился! Едут! Нет средств остановить, они в дороге; завтра, через несколько дней могут быть в Дендерове! Ах, это какое-то проклятие Божие!
— Как, уже женился? — спросил Фарурей. — Уже?
— Торопился, чтобы кто-нибудь не отнял у него это сокровище! Глупец! Архи-глупец! Болван! Пусть же пропадает, пусть гибнет, пусть едет, куда хочет: я не хочу пускать его к себе на глаза! Он мне не сын; отрекаюсь от него навеки!
— Граф, это невозможно, — сказал спокойно маршалек, — ведь вы благословили, ведь вы просили!
— Это было благословение против желания, они врали, они обманывали нас.
— Но вы можете наткнуться на неприятности, у Гормейера сильная рука.
Дендера задумался.
— Что же мне делать? — спросил он.
— Не делать из этого шума, молчать и в молчании вытерпеть, что назначено судьбой. Воевать с человеком и с женщиной, которые могут уничтожить вас одним движением пальца, вам, граф, не годится. Кроме меня и вас, никто не будет знать об этом; вы, напротив, хвастайте судьбой сына, я сохраню тайну, другого средства я не вижу.
Сигизмунд-Август остановился на минуту и подумал.
— Вы правы… Но это убивает меня! Дайте вы мне честное слово, что никто не будет знать об этом!
— От меня — ручаюсь, — сказал Фарурей, — я буду молчать как могила.
Сказав это, в то время как Дендера метался еще в бессильном гневе, маршалек, всегда равнодушный, потому что волнение вредило его желудку, пройдясь раза два по комнате, надел французские перчатки, взглянул в окно и, убедясь, что наступают уже сумерки, стал прощаться, избегая дальнейшего разговора и объяснений.
Можно себе представить душевное состояние графа; потребовалось несколько часов, чтобы освоиться с этим кровавым обманом и явиться со спокойным лицом к жене и дочери с известием о свадьбе Сильвана.
— А! — подумал он, наконец. — Мне остается Фарурей: его буду доить, если глупая Цеся и его не оттолкнет; есть у меня еще Вацлав, который должен бы быть сговорчив; есть у меня голова… a 20 000 рейнских Сильвана, а драгоценности его жены?.. Это во всяком случае что-нибудь да значит. Не пропаду еще и встану на ноги. Надо только кричать во все горло, что Сильван берет восемьсот тысяч чистоганом и после жены ждет около двух миллионов… И это может пригодиться.
Прошло несколько дней, и, по счастью, Сильван с женой не приехали в первую минуту бури; болезнь Эвелины, которая на другой день после свадьбы сделалась опасною, задержала приезд молодых. Довольно было, однако же, огорчения старику Дендере, который, запершись в четырех стенах, скрежетал в гневе зубами, а являясь между людей, должен был казаться спокойным и в минуту грозящего ему разорения владеть собой больше, чем когда-нибудь. С каждой минутой приближался новый год, а с ним и срок условий; со всех сторон опять сыпались требования капиталов, и сам граф, предупреждая некоторых кредиторов и желая их отуманить, приказал разослать им письма с предложением возвратить капиталы, с которых и процентов-то нечем было заплатить. Комедия, по крайней мере, разыгрывалась до конца смело и бойко.
Прибавляла еще огорчения графу Цеся, ненависть которой, презрение к Фарурею и безжалостное обхождение с ним с каждым днем становились выразительнейшими и все больше и больше угрожали разрывом. Угнетаемый старый любезник наконец стал являться реже и оставаться меньше; он охладел, казалось, стал раздумывать; а эта перемена в нем, вместо того чтобы заставить Цесю опомниться, возбуждала в ней еще сильнейшие выходки досады. Они расставались с каждым разом хуже, и наконец маршалек не показывался уже в продолжение нескольких недель.