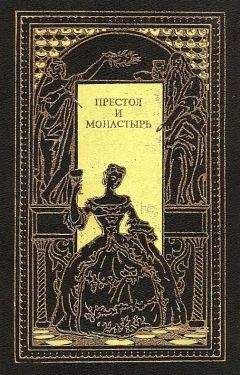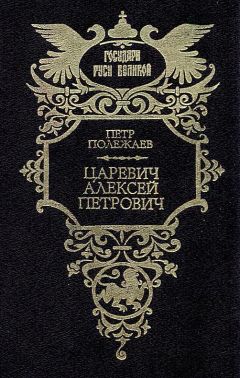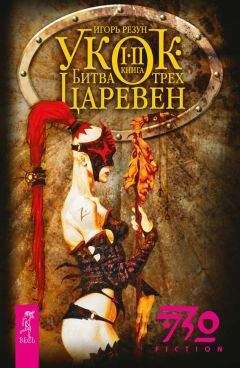И стала разыгрываться обыкновенная история, какая разыгрывалась и вечно будет разыгрываться во все времена между молодыми мужчиной и женщиной в тех обстоятельствах, в каких были Авдотья Федоровна и генерал Глебов. Государыня и Степан Богданович, постепенно и незаметно для самих себя, увлекались чувствами, от которых не спасает ни черная ряса, ни мундир, ни сермяга.
Посещения стали повторяться часто и не ограничиваться одними поздравлениями после праздничных церковных служб; рослая и стройная фигура генерала стала появляться в обительских стенах и в будни. От этих изурочных посещений благочестивые старицы смущались, перешептывались между собою, собирались кружками, и, наконец, общее смущение дошло до ушей монастырского протопопа и матери казначейши.
На общем совещании лиц, имеющих власть в обители, было решено с достодолжным почтением довести до сведения монастырского правителя Афанасия Григорьевича Сурмина о соблазне, который возбуждают в помышлениях стариц частые, продолжающиеся далеко за полночь посещения генерала. Для передачи же этого выбрали отца протопопа Симеона как самого почтенного и уважаемого. Конечно, и отец Симеон и мать казначейша очень хорошо знали, что генеральские посещения не составляли исключительного события, что послушницы, белицы и даже сами старицы водили знакомство с мужским полом; но эти знакомства покрывались всегда непроницаемым мраком и не мозолили целомудренных завистливых глаз.
Выслушал монастырский правитель челобитную обители и задумался, — случай щекотливый и опасный. Если промолчать обо всем и дойдут слухи до государя, то тогда, чего доброго, и головою поплатишься; если же начать дело и поднять розыск — тоже может приключиться конец нехороший. Думал, думал монастырский правитель и решился на среднюю меру: не молчать и дела не поднимать, а доложить самой государыне об извете отца Симеона. Вразумится она его речами — все будет покрыто; не вразумится все-таки — не будет виноват или виноват в малости, ведь воровства не покрыл.
Решившись на среднюю меру, Афанасий Сурмин, выбрав светленький денек, когда солнышко сияло весело и радостно, явился к государыне и выложил перед нею всю речь отца Симеона осторожно, со всем почтением и тихостью. Но на государыню речи эти, к крайнему изумлению осторожного правителя, произвели страшное впечатление. Она сначала побледнела, потом покраснела, долго не могла от волнения выговорить слова и, наконец, когда кровь, отхлынув от сердца, бросилась в голову, грозно крикнула:
— Как смеешь ты, вор, говорить мне такие речи? Разве забыл ты, что у меня сын государь-наследник? Разве он не заплатит тебе? — Государыня более не могла говорить и вышла в другую комнату, сильно захлопнув за собою дверь.
В молельне или спальне государыня бросилась на кровать в истерических рыданиях. Правитель ушел, а верная послушница сестра Капитолина принялась успокаивать и уговаривать царицу не обращать внимания на глупые речи.
— Полно, матушка государыня, не по што кручиниться, плюнула бы в зенки непотребному; тоже ведь правителем прозывается, а у самого… завистны глаза у наших чернохвостниц, вот что, не слушай их… — утешала Капитолина.
Но чернохвостницы не угомонились. Не получив никакого ответа от правителя, который на все их расспросы только отмахнулся рукою да отослал в нечистое место, целомудренные старицы приступили к матери казначейше. Под влиянием их наговоров мать Маремьяна на другой же день отправилась в келью сестры инокини Елены и, кстати упрекнув ее за прошлое несоблюдение обительских уставов, за мирское платье, настрого запретила впредь принимать к себе безвременно царского генерала. Но не успела мать казначейша выговорить до конца свою внушительную начальническую речь, как государыня с запальчивостью оборвала ее:
— Забыла, черница, кто я? Вспомни, что все наше государево, а государь за свою мать заступится. Вспомни, что воздано стрельцам, а сын мой из пеленок уж вышел…
По уходе матери Маремьяны Авдотья Федоровна заплакала, но заплакала не от оскорбленного достоинства женщины и государыни, а от едкой злобы за то, что в ее самые заветные дела осмелились вмешиваться какие-то заскорузлые лицемерки, вздумали отнимать от нее человека, которым она дорожила теперь больше всего на свете. Поздно пришли к ней минуты счастья, но зато и ухватилась же она за них цепко, зато она и готова была пожертвовать за них всем, решительно всем. Не пройдет же это им даром, докажу этим чернохвостницам, как осмеливаться оскорблять и супротивничать своей государыне, думала она, и тотчас же принялась писать длинное послание к отцу Досифею.
Средняя мера оказалась тоже не совсем безопасною. Через неделю после письма государыни по предложению отца Досифея Афанасий Сурмин был отрешен от правительства монастырем, а старого протопопа Симеона постригли в монахи под именем Симона.
Смирились старицы, смирился и церковный причт.
Вечером того же дня, когда мать казначейша посетила Авдотью Федоровну, приехал в обитель Степан Богданович. От грустного выражения и слезинок, блестевших на длинных ресницах, Авдотья Федоровна показалась ему еще привлекательнее.
— Кто смел огорчить тебя? — спрашивал генерал, заглядывая в расстроенное лицо и горячо целуя выхоленную руку государыни.
— Было мне тяжело, да… Степан Богданович, а теперь ничего, все прошло… Не тревожься… Душно вот здесь… пойдем в сад, — прерывисто проговорила она, еще задыхаясь от удара только что нанесенного ей оскорбления, а теперь вдруг охватившей ее радости от участия любимого человека.
Долго пробыли Степан Богданович и Авдотья Федоровна в саду, обо многом переговорили они и договорились до последнего слова… В саду и днем почти никого не бывало, а теперь и подавно, в такую позднюю пору, когда все сестры давно уже спали. Только небо да звезды могли слышать тихие речи и страстные поцелуи, но они свидетели не опасные. Авдотья Федоровна в тревожном волнении от недавней попытки оторвать ее от дорогого человека и под чарующим влиянием тихого, благоухающего вечера, когда каждый нерв трепещет от странного ощущения, когда сердце самовластно подымает грудь, а человеком овладевает только одно чувство, вся беззаветно отдалась поздно, но зато неудержимо развившейся любви. Она вылила всю душу свою ненаглядному милому, передала ему всю свою прежнюю безотрадную жизнь, как будто прошлое миновалось и никогда не воротится. Степан Богданович со страстною ласкою утешал молодую женщину, и оба они забыли все условия света.
Голубым светом обливается монастырский сад, тонкие лучи месяца пронизывают сквозь густую листву, окружавшую со всех сторон лужайку, на которой укрылись Авдотья Федоровна и генерал Глебов. А кругом них слышится шепот ночи, да вдали за оградой чей-то надорванный тенор поет недавно сложенную каликами перехожими былину:
Постригись, жена немилая,
Ты посхимись, опостылая!
На постриженье дам я сто рублей,
На посхименье дам я тысячу;
Я поставлю тебе келейку,
Что новехоньку, малехоньку,
При пути ли, при дороженьке,
В зеленом саду под яблоней;
Прорублю тебе три окошечка:
Как уж первое к церкви Божией,
А другое-то во зеленый сад,
А и третье-то во чисто поле;
В церкви Божией ты намолишься,
В зеленом саду нагуляешься,
Во чисто поле не насмотришься.
Но не слушала Авдотья Федоровна этой народной песни, сложенной про нее, и не слышала, как тот же голос надрывался все громче и громче:
Как и взмолится тут немилый муж:
Расстригися, жена милая!
За расстриженье дам я тысячу,
За расхименье — все именьице;
Я построю тебе нов-высок терем,
Что со красными со оконцами,
Со хрустальными со стекольцами.
Будешь жить в нем, прохлаждатися,
В цветно платье наряжатися.
* * *
Как взговорит тут млада старичка:
Да уж Бог с тобой, немилый муж!
Мне не надо твоей тысячи,
Ни всего твово именьица,
Мне ненадобен нов-высок терем:
Я останусь в своей келейке,
Стану весь свой век спасатися,
За тебя Богу молитися…
Да, народная былина отозвалась правдою. Авдотья Федоровна отказалась бы теперь и от высокого терема, и от царского достоинства: позабыла грозного, немилого мужа.
Прошло несколько месяцев. Как ни тянулись сборы нетчиков, но наконец все посланные сыскные команды воротились с докладом, что во всей округе нет более никого из подлежащих набору, и Степан Богданович должен был готовиться к отъезду в Петербург с отчетом о выполнении поручения. Сколько ни откладывалось, сколько ни придумывалось разных проволочек, но время разлуки приближалось, а вместе с приближением срока и Авдотья Федоровна становилась все требовательнее и тревожнее.