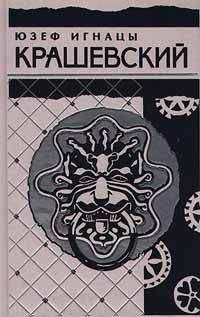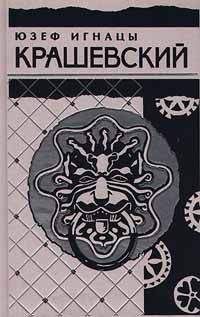знал только, что его детей, единственное, что его держало на земле, – не было.
Увидев пана уже полутрупом от тревоги и гнева, люди, что с ним ехали, все разбежались искать кого-нибудь, кто бы рассказал о несчастье. Может, какое-нибудь спасение было…
Добрух, тем времнем остыв, начал стонать и подошёл к старику.
– Телеш погнался за ними, – сказал он, – два дня тому назад… и не вернулся.
За кем, Мшщуй не мог спросить, язык его присох к запёкшимся устам. Тащили старого батрака, который вырывался, крича, думал, что его ведут на казнь.
Он упал в ноги Валигуры, умоляя сохранить ему жизнь, уверяя, что был невиновен. У него вырывался бессвязный ответ.
– Пане, отец, мы все невиновны. Кто их знает, как, каким образом, немцы ночью влезли в замок. Ворота были закрыты, стража у них… Схватили девушек и унесли их с собой. Пришли и вышли так тихо, что только на следующий день бабы заметили, что нашего сокровища нет. Телеш со всеми людьми и лошадьми два дня в погоне.
Мшщуй слушал, не давая знака от себя, понял ли рассказ, прерываемый стоном, – когда батрак закончил, он закачался и распластался на земле.
Молнии не поразили бы сильней. Челядь побежала за водой, люди взяли его на плечи и занесли в избу. Зажгли огонь, начали выходить бабы. Старик, облитый водой, открыл вскоре глаза, но стиснутые уста раскрыться не могли. Лежал так в немом остолбенении, живой и мёртвый, неподвижный…
Перепуганная челядь, не зная, что предпринять, после короткого совещания на лучших конях пустилась в Краков дать знать епископу…
Добрух, старые бабы, несколько слуг село тем временем на страже при больном… который, казалось, от великой боли потерял рассудок. И этот удар ещё не смог его добить – он жил, должен был жить.
Так прошла ночь. Утром из напрасной погони начали возвращаться люди пешком или с побитыми конями. Только Телеша не было. Немцев, которые уходили в несколько коней с захваченными девушками, преследовали, как рассказывали люди, вплоть до лужицких границ. Там след их пропал, на чужую землю не смели идти, потому что информацию бы не достали, а в неволю попасть могли.
О Телеше знали, что он умчался вперёд, но куда подевался, никто не слышал, канул в воду. Мог также от отчаяния где-нибудь прыгнуть в реку, не смея возвращаться к пану.
Женщины рассказывали, что не могли понять, как девушки дали похитить себя, не крикнув о помощи, не защищаясь, – точно с ними пошли добровольно. Это было тайной для всех… какими-то чарами.
Валигура остался на постели, его поили водой и какой-то полевкой, которую ему силой вливали в рот.
Третьего дня сам епископ Иво был в замке. Медленно вошёл в комнату брата, молясь вполголоса, остановился перед его ложем и долго творил молитву, пока она не кончилась. Его глаза, уставленные на Мшщуя, имели силу, которая, казалось, как бы его от сна пробуждает.
Он беспокойно задвигался и застонал.
– Встань и иди! – воскликнул Иво, вытягивая к нему руку. – Во имя Божье, приказываю тебе, встань, иди! Упади на колени и пожертвуй Богу боль свою, и живи.
Произошло чудо, старый Мшщуй, послушный, встал с ложа, застонал снова и припал к руке брата.
– Брат, отец! – воскликнул он с рыданием. – На что ты мне жить приказываешь? Мне не для кого жить и не из-за чего… последнее сокровище вырвали у меня враги мои, так же, как первое… Они отобрали у меня мать, они забрали дочек. Не хочу жить.
Епископ положил ему руку на голову и произнёс короткую молитву, потом схватил его руку и как ребёнка повёл с собой в часовню. Велел ему встать на колени – опустились оба.
– Пожертвуй Богу! – повторил он.
И произносил молитвы, глаза были уставлены на алтарь с такой силой, что, казалось, какую-то силу приводит на землю, которая должна была возродить старца.
Пот каплями стекал по его лбу, слёзы текли из уставших глаз… но нескоро уста начали двигаться медленной молитвой, которая сначала из них вырывалась как бы невольно, потом текла уже великим потоком и мольбой.
Епископ Иво не прерывал молитв, а когда, перекрестившись, встал, Мшщуй поднялся также, и шёл оцепенелый, но спокойный.
Святой муж дал ему отдохнуть.
– Пойдёшь со мной, – сказал он ему. – Ты слишком слаб, чтобы остаться, боль бы твоя вернулась от этих мест, которые её видели. Бог дал, Бог взял. Мог у тебя их отобрать смертью, отнял у тебя их через руки тех, которых ты ненавидел, когда Он велел прощать и любить.
Пойдём со мной, служить Церкви и пану нашему. Если жизнь тебе отвратительна, найдёшь, где отдать её за Христа и за княжеское дело, которое есть делом нас всех.
Он поцеловал его в голову.
– Пойдём со мной, – добавил он, – буду молиться, чтобы зажили твои раны, пойдём со мной, чтобы я бдил над тобой. Будь моей рукой и помощью… иди, дитя моё, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Amen.
Валигура поднялся со скамьи.
– Идём, – сказал он одним словом.
Сам епископ должен был созвать собравшуюся челядь, нашёл людей, которым поручил охрану замка. Мшщуя не интересовало тут ничего. Шёл за братом, как чужой, как прикованный к нему неведомой силой…
Оба вместе двинулись в молчании из грода. Выехав из него, Мшщуй не огляделся даже, не хотел его видеть и прощаться. Ехал за братом и всю дорогу пробыл в молчании со стиснутыми устами; только когда епископ начал молиться, он также что-то шептал и плакал.
Когда они прибыли в Краков, было утро, и Иво поехал прямо к костёлу Св. Троицы, у ворот которого оба спешились.
Он был открыт, перед большим алтарём совершалась святая месса – траурная. Для Мшщуя это было как бы знаком, что должен был похоронить все надежды и начать новую жизнь – послушания и покаяния.
Один он, наверное, постепенно бы умер, замучившись, от тоски, гнева и скорби, – брат приказал ему жить, он был в его власти; служить ему должен, это воля Божья!!
Из костёла поехали к епископу; Иво шепнул словечко Кумкодешу и отдал клирика на служение брату. Началась новая жизнь, как бы с ребёнка, которого должны были водить по песку. Этот неподвижный гигант был послушный и дал с собой делать, что хотели. Признал как бы верховную власть за Кумкодешем, и делал, что ему тот указывал. Вместе с утра шли на богослужение или в часовню, где епископ чуть свет совершал святую мессу; потом клирик советовал конную прогулку за город,