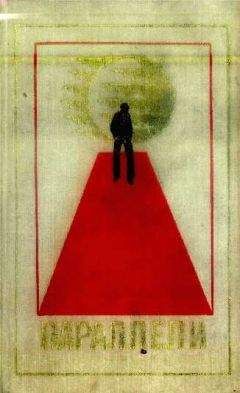Глебов передал вызов Лермонтову четырнадцатого июля, ранним утром. С того часа у секундантов не было ни минуты покоя. В спешке получилось как-то так, что Мартынов без возражений присвоил себе право оскорбленного, а следовательно, и право на то, чтобы продиктовать условия поединка.
И Николай Соломонович продиктовал:
– Стреляться до трех раз, с кратчайшего расстояния, с барьером в десять шагов, из дальнобойных пистолетов!
После сообщения Глебова он знал, что ничем не рискует. Плевать ему на дуэльные обычаи!
Может быть, растерявшимся секундантам показалось даже, что Мартынов готов рисковать головой. Может быть, корнет Глебов совсем забыл о словах Лермонтова, брошенных мимоходом в ответ на вызов. Может быть, в суматохе никому в голову не пришло сопоставить требования Мартынова с дуэльными обычаями. Иначе немедленно выяснилось бы – более тяжелых условий не знает история дуэли. Такие условия допускаются только тогда, когда нанесено оскорбление действием или такое, которое может быть приравнено к оскорблению действием.
В дуэльной практике существовало еще одно безусловное требование: если условия боя, выдвинутые оскорбленным, не соответствуют тяжести нанесенного ему оскорбления, то секунданты не только могут, но и обязаны отказаться от участия в подобной дуэли.
Ни один из секундантов, ни те, кто был избран Мартыновым, ни те, кому доверился поэт, не отказался. Они не составили ни одного протокола своих совещаний. Единственное решение, к которому они пришли, заключалось в том, чтобы предложить Лермонтову немедленно уехать в Железноводск. Предполагалось, что в это время удастся воздействовать на Мартынова.
Поэт уехал. День, начавшийся с вызова, близился к концу. Ни на какие уступки Мартынов не шел. Секунданты во всем ему подчинились.
– Ну, что нового? – спросил Николай Соломонович, когда Глебов, совершенно усталый, вернулся к ночи домой.
– Решено назначить вашу встречу на завтра. Послали нарочного к Лермонтову.
Мартынов расспросил о подробностях. Вскоре он ушел к себе и наглухо прикрыл дверь.
На следующий день Лермонтов выехал из Железноводска. Путь его лежал к подножию Машука. Там, неподалеку от Пятигорска, было избрано секундантами место для дуэли.
На полпути он остановился в колонии Каррас. В убогой гостинице, которую держала престарелая немка, поэт расположился обедать.
Здесь судьба послала ему неожиданную встречу. По дороге в Железноводск сюда заехала одна из дальних московских кузин, Катя Быховец, постоянная участница пятигорских увеселений. Несмотря на присутствие тетушки, опекавшей племянницу, обед прошел весело. Михаил Юрьевич развернул перед слушательницей живую летопись курортной жизни. Катя смеялась до слез.
После обеда, когда почтенная тетушка задремала, молодые люди сделали короткую прогулку.
Теперь Катюше смеяться не пришлось. Михаил Юрьевич, сам не зная зачем, рассказал ей грустную историю любви: то была повесть о Вареньке Лопухиной. Он поведал мучительную историю, полную загадок. Впрочем, Катя была милая девушка, вовсе не из болтушек. Многого не могла понять юная кузина, еще не вступившая в таинственный мир надежд и разочарований сердца. В глазах ее стояли крупные, для нее самой неожиданные слезы.
В руках она беспомощно вертела золотой обруч, снятый с головы. Освобожденные волосы рассыпались вольными прядями, но Катя Этого не замечала. Она все так же играла изящным обручем.
– Дайте его мне на счастье, – сказал поэт. – Я верну… если буду жив.
Катя растерянно подняла глаза. О чем он говорит? А руки сами к нему протянулись.
Михаил Юрьевич бережно спрятал безделушку.
Они вернулись в гостиницу. Тетушка, истомленная зноем, дремала. Мухи роем вились над ней. Катя присела в уголке, совсем притихшая. Михаил Юрьевич взглянул на часы: пора!
Когда он пустил лошадь рысью и оглянулся, на крыльце стояла одинокая фигура. Уже почти совсем скрылся из глаз всадник, а девушка все еще следила за ним тревожным, грустным взором. Она никогда не видала Мишеля таким непривычно откровенным и доверчиво-нежным. А сердце билось так тревожно. Михаил Юрьевич обернулся и приветливо помахал ей рукой. Вот и его кто-то провожает.
Над Машуком собирались тучи. Чувствовалось приближение грозы.
Вскоре противники и секунданты встретились на небольшой площадке, отделенной от дороги густым кустарником. Никто не решался приступить к делу. Перекидывались незначащими фразами. Глебов подчеркнуто громко рассказывал Трубецкому о предстоящем голицынском бале.
Князь Васильчиков наблюдал за Мартыновым и размышлял. Оказавшись нежданно-негаданно участником этой истории, Александр Илларионович больше всего настаивал на быстроте действий. Гораздо легче замести следы дуэли, чем тянуть приготовления к ней на глазах у всего Пятигорска, изнывающего от праздного любопытства.
Судьба отставного майора Мартынова нисколько не интересовала князя. По его глубокому убеждению, Мартынов принадлежал к тем людям, которые, раз споткнувшись, не оставляют свету даже имени. Иное дело – Лермонтов. Александра Илларионовича искренне удивляло отношение к нему в Пятигорске. В нем видели опального офицера, неутомимого выдумщика увеселений и радушного хозяина. Словно бы поэт, неотразимо действующий на умы и смущающий общественное спокойствие, не имеет никакого отношения к этому поручику. Против кого же восстал Мартынов? Сколько ни наблюдал за ним князь, отставной майор хорохорился, по-видимому, из-за своей оскорбленной чести. Но Александр Илларионович, человек образованный, начитанный и искушенный, не мог уподобиться кавказскому майору. Поэзия Лермонтова представлялась князю Васильчикову столь же непримиримой и язвительной, как и сам автор.
«Не Мартынов, так другой. Столкновение совершенно неизбежно, – подумал Александр Илларионович. – А главное – скорее кончить!»
Он вынул часы и, держа их в руке, подошел к Столыпину.
Вечерело. Лохматые тучи опустились совсем низко, закутав вершину Машука. Прогрохотал первый гром. Гроза быстро приближалась.
– Алексей Аркадьевич… – начал Васильчиков.
Все выжидательно посмотрели на Столыпина. Лермонтов стоял, равнодушно выбирая из фуражки спелые черешни.
Столыпину, признанному арбитру чести, должно было принадлежать первое слово. А он все медлил, словно непременно хотел дослушать рассказ Глебова о чудесах, задуманных на балу в городском саду. Но и Глебов исчерпал запас известий.
– Хоть мы и не удостоились приглашения Голицына, – заключил он, – но непременно явимся в сад, в пику князю. – Беспечный корнет поднял голову и обвел глазами горизонт. – Надо торопиться, господа, если хотим уйти сухими…
И все еще медлил арбитр чести. Пожалуй, ему не хватало сегодня обычного спокойствия. Алексей Аркадьевич корил себя за то, что допустил нарушение всех правил дуэли. Надо же было поддаться проклятой спешке!.. То вдруг вспомнилась ему петербургская дуэль Лермонтова и возня, которую подняли жандармы. Он сам едва выскочил тогда из их цепких рук. Как же не торопиться теперь, чтобы спрятать в воду все концы…
– Алексей Аркадьевич, – повторяет Васильчиков, дивясь нераспорядительности Столыпина, – мы напрасно теряем время.
– Кончим – и едем пить шампанское! – вмешивается Трубецкой. Он заметно нервничает, словно ждет погони из Пятигорска.
– Именно шампанское! – вторит ему корнет Глебов.
А гром грохочет совсем близко. Полыхнула молния. Воздух так раскален, что становится трудно дышать.
– Господа! – Столыпин сделал несколько шагов по направлению к противникам.
Лермонтов по-прежнему был занят черешнями. Мартынов едва повернул голову.
– Господа! – повторил Алексей Аркадьевич и утер влажный лоб. – Теперь, когда вы проявили полное мужество и готовность с оружием в руках…
Мартынов нахмурился. Михаил Юрьевич взглянул на секунданта, пряча сочувственную улыбку. Положение Столыпина было действительно трудным. Противники никак не отзывались на его призыв. А ведь на примирение возлагал Столыпин все свои надежды.
«Помирить, во что бы то ни стало помирить их!» – почти с отчаянием подумал он и продолжал:
– Мы, секунданты, готовы засвидетельствовать ваше безупречное и взыскательное отношение к защите чести. – Столыпин поглядел на угрюмое, непреклонное выражение лица Мартынова и закончил неуверенно: – Мы предлагаем, господа, считать недоразумение исчерпанным и подать друг другу руки…
Мартынов отвернулся. Никто не ответил.
Столыпин стоял в совершенной растерянности. Остальные секунданты не вмешивались. Наступило тяжелое молчание. Алексей Аркадьевич никак не мог решиться на роковые слова, приглашающие противников к барьеру. Кровавые условия боя, принятые секундантами без попыток их смягчить, условия, которым, казалось, никогда не суждено было осуществиться, теперь предстали как неотвратимая беда.