— Моя судьба мне заранее известна.— Тон голоса Тимофея Евлампиевича явственно отдавал полным безразличием.— Вполне вероятно, что и моим палачом окажется Николай Иванович Ежов. Я — как тот юродивый, которому цари разрешали говорить все, что угодно, резать в глаза правду-матку. А потом эти храбрецы бесследно исчезали.
— Провидца из вас не получится,— опроверг его Сталин.— Товарищ Ежов гораздо раньше сойдет со сцены. Самой непродолжительной из всех должностей должна быть должность наркома внутренних дел. Иначе он оплетет страну такой паутиной, из которой не сможет выбраться даже сам товарищ Сталин. Достаточно вспомнить наполеоновского министра полиции Жозефа Фуше.
— Омерзительная личность.— Тимофея Евлампиевича даже передернуло.
— Гениальная личность, всех перехитрил, всех в дураках оставил,— убежденно возразил Сталин.— Если бы в России нашелся такой, как Фуше, за безопасность государства можно было бы не беспокоиться.
— Но он столько раз предавал Наполеона! — воскликнул Тимофей Евлампиевич,— И столько раз становился перевертышем!
— И все же Наполеон не мог обойтись без него. Парадоксы — неизменные спутники политики. Что же касается перевертыша, то это объяснимо с точки зрения диалектики. А если вернуться к Ежову — у него есть отличие от Фуше, и весьма существенное. Фуше в рот не брал вина, чего не скажешь о Ежове. Но главное — Ежов не способен на предательство.
— Чем больше живу на этом свете,— сказал Тимофей Евлампиевич,— тем больше убеждаюсь, что политика — дело весьма грязное и кровавое.
— Сколько мы с вами встречаемся, столько вы пререкаетесь со мной по любому вопросу. Вы — образец несгибаемого оппозиционера, а несгибаемость всегда вызывает уважение. Думаю, что ваше любимое занятие — обнаруживать мои ошибки и прегрешения. Создается впечатление, что вы не знакомы с рассказом Плутарха о солдате, который во время сражения спас жизнь королю.
— Откровенно говоря, не припоминаю. Может, и читал когда-то, но запамятовал.
— Это с вами редко случается,— отметил Сталин,— Я вам напомню. Мудрец советовал этому солдату тотчас же бежать и скрыться. Однако недальновидный солдат остался, рассчитывая на благодарность короля. И как же поступил король? Он велел казнить этого солдата.
— Понятно,— горько усмехнулся Тимофей Евлампиевич,— короли не любят тех, кто был свидетелем их бесчестья.
— Очень точный вывод из этой истории,— удовлетворенно заключил Сталин.
— А еще один вывод мне, видимо, надо сделать для себя.— Тимофей Евлампиевич так и не вышел из подавленного состояния.— Я — это тот самый злополучный солдат.
Сталин как-то по-новому любовно оглядел его.
— То вы избираете себе маску юродивого, то солдата. Нет, вы не юродивый и не солдат. Пока я жив, вам ничего не грозит. Продолжайте громить товарища Сталина, только не с трибуны. Продолжайте прямо и откровенно говорить товарищу Сталину о его ошибках и промахах, о его злодеяниях. Больше некому. Только не с трибуны, а тет-а-тет.
— Вот уж не ожидал такой милости,— равнодушно произнес Тимофей Евлампиевич.— Смею лишь обратить ваше внимание на то, что обычно диктаторы осознают свои промахи и ошибки лишь после того, как потерпят поражение. Точно так же, как и полководцы.
— Не думаете ли вы подвести меня к мысли о том, что товарищ Сталин, как вождь, не знавший и не знающий поражений, так никогда и не осознает своих ошибок?
— Вы, как всегда, прозорливы, Иосиф Виссарионович…
— Можете быть уверены: товарищ Сталин не опустится до уровня того короля, который приказал казнить своего спасителя.
— А помните, Зиновьев, отстраненный вами от власти, спросил: «Знает ли товарищ Сталин, что такое благодарность?» Кажется, он имел право на такой вопрос…
— Товарищ Сталин отличается от некоторых беспамятливых людей хотя бы тем, что он никогда ничего не забывает,— не дал ему докончить Сталин.— Товарищ Сталин тогда ответил Зиновьеву так: «Ну как же, знаю, очень хорошо знаю, это такая собачья болезнь».
— Я хотел бы услышать от вас, Иосиф Виссарионович, ответ на один мучающий меня вопрос. Чем объяснить, что чем больших успехов мы добиваемся в строительстве социализма, тем большее число людей оказывается за решеткой?
Лицо Сталина оживилось и просияло, уж очень по душе пришелся ему этот вопрос.
— Впервые вижу человека, в голове которого философия задушила политику,— тем не менее мягко, без упрека сказал Сталин.— В таком случае есть необходимость преподать вам элементарный урок политграмоты. Тем более что мы, кажется, располагаем большим запасом времени: этого пройдоху Ежова не так просто разыскать.
Он помолчал, как бы собираясь с мыслями.
— Так вот, товарищ Грач, зарубите себе на носу, в чем главная суть нашей большевистской линии на современном этапе. А суть ее в том, что надо покончить с оппортунистическим благодушием, исходящим из ошибочного предположения о том, что по мере роста наших сил враг становится будто бы все более ручным и безобидным. Такое предположение в корне неправильно. Оно — не более чем отрыжка правого уклона, уверяющего всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в социализм, что они станут в конце концов настоящими социалистами. Но дело большевиков не почивать на лаврах и ротозействовать. Не благодушие нам нужно, а бдительность, настоящая большевистская бдительность. Надо помнить, что чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут хвататься за крайние средства, как единственные средства обреченных в их борьбе с советской властью.
— Но неужели сама партия породит у себя столько врагов? — изумленно спросил Тимофей Евлампиевич.
— А капиталистическое окружение? Вы точно так же, как и наши политические слепцы, напрочь забыли о капиталистическом окружении! Между тем капиталистическое окружение-это вовсе не пустая фраза, это очень реальное и неприятное явление. Это значит, что имеется одна страна, Советский Союз, который установил у себя социалистические порядки, и имеется, кроме того, много стран, которые продолжают вести капиталистический образ жизни и которые окружают Советский Союз, выжидая случая для того, чтобы напасть на него, разбить его или, во всяком случае,— подорвать его мощь.
— Это, конечно, логично,— вслушиваясь в слова Сталина, произнес Тимофей Евлампиевич.
— Впервые вы разделили мою точку зрения,— удовлетворенно сказал Сталин.— Но я еще не закончил свою мысль. Допустим, как дважды два, что буржуазные государства засылают друг другу в тыл своих шпионов, вредителей, диверсантов, а иногда и убийц. Спрашивается, почему они должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных им буржуазных государств?
— Но в таком случае пусть бравые опричники Ежова их и вылавливают,— воспользовавшись тем, что Сталин сделал небольшую паузу, сказал Тимофей Евлампиевич.— А они волокут под нож гильотины свой собственный народ.
— Вы не диалектик,— заключил Сталин,— Шпионы, диверсанты, вредители и убийцы проникли во все поры нашего общества. Их сила состоит в том, что они обладают партийным билетом. Их сила состоит в том, что партийный билет дает им политическое доверие, открывает им доступ во все наши учреждения и организации. Их преимущество состоит в том, что, имея партийные билеты и прикидываясь друзьями советской власти, они обманывают наших людей политически, злоупотребляют доверием, вредят втихомолку и открывают наши государственные секреты врагам Советского Союза.
— Но в таком случае никому нельзя верить! — воскликнул Тимофей Евлампиевич.— Так же можно будет пересажать всю партию! И неужели в партии все поголовно ослепли, что не видят, кто друг, а кто враг?
— Очень хороший вопрос,— одобрил Сталин.— Все дело в том, что в партии слишком много людей, заболевших идиотской болезнью — благодушием. Большие успехи и большие достижения, как это ни странно, порождают беспечность, самодовольство, чрезмерную самоуверенность, зазнайство, хвастовство. Вы не можете отрицать, что за последнее время хвастунов у нас развелось видимо-невидимо. Неудивительно, что в этой обстановке создаются настроения бахвальства, настроения парадных манифестаций наших успехов, создаются настроения недооценки сил наших врагов, настроения переоценки своих сил, и, как следствие всего этого,— появляется политическая слепота.
— Иосиф Виссарионович,— взмолился Тимофей Евлампиевич,— к кому же вы апеллируете? Ведь вы сами прежде всего через прессу и радио поощряете эти настроения парадных манифестаций наших успехов! Я часто говорю своему сыну, что они там, в «Правде»,— не журналисты, а барабанщики!
— И вы абсолютно правы! — поддержал его Сталин,— Вся эта политическая слепота начинается с газетных полос. Капиталистическое окружение? Да это же, по их мнению, чепуха! Какое значение может иметь какое-то капиталистическое окружение, если мы выполняем и перевыполняем наши хозяйственные планы? Борьба с троцкистами? Все это пустяки! Какое значение могут иметь все эти мелочи, когда мы выполняем и перевыполняем наши хозяйственные планы? Партийный устав, выборность парторганов, отчетность партийных руководителей перед партийной массой? Да есть ли во всем этом нужда? Стоит ли вообще возиться с этими мелочами, если хозяйство у нас растет, а материальное положение рабочих и крестьян все более и более улучшается. Пустяки все это! Планы перевыполняем, партия у нас неплохая, ЦК партии тоже неплохой,— какого рожна нам еще нужно? Странные люди сидят там в Москве, в ЦК партии: выдумывают какие-то вопросы, толкуют о каком-то вредительстве, сами не спят, другим спать не дают.
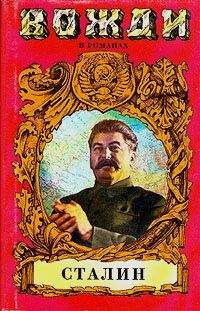

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)


