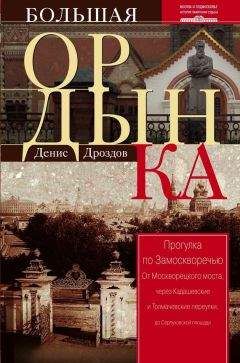– Очень немногочисленная группа сторонников регентства отца.
– Все же регентства, а не самодержавного правления?
– Да, прусские симпатии великого князя не пользуются популярностью, а его увлечения казармой и солдатской муштрой отталкивают от него придворных. Наконец, существует вариант передачи власти императору Иоанну.
– После стольких лет заключения и полной изоляции он продолжает привлекать внимание двора?
– Как нельзя больше. Расчет его сторонников строится на том, что, возведенный на престол, он будет связан с ними чувством признательности.
– Наивные бредни в духе избрания „всем покорной“ императрицы Анны Иоанновны.
– Тем более наивные, что император Иоанн, по слухам, тронут в уме и даже не вполне справляется с речью.
– Что удивительного после двадцати лет одиночного заключения, и притом с младенческого возраста.
1754 год – существовало еще одно обстоятельство, почему Петр Трезин не мог вмешаться в судьбу своих проектов: уже несколько лет его не было в России.
Кажется, он использовал все, чтобы сохранить положение ведущего или по крайней мере действующего архитектора. Добиться приема у императрицы представлялось одинаково бессмысленным и невозможным. Елизавета Петровна просто не замечала его прошений и ходатайств. Вслед за Преображенским собором у Трезина было отобрано строительство Аничкова дворца, также перепорученное всесильному Растрелли. О новых заказах никто не упоминал. Последняя отчаянная попытка архитектора – отъезд под видом командировки в Италию. Под влиянием И. И. Шувалова Елизавета Петровна склонялась к восстановлению забытого после Петра института государственных пенсионеров. Петр Трезин должен был выяснить условия их работы, но в действительности он присылает руководству Канцелярии от строений ультиматум – те условия, на которых он может согласиться продолжать строить в России. Именно строить – то, в чем ему отказывает двор. Ультиматум проходит незамеченным. Петр Трезин – Пьетро Трезини остается в Италии. Дата его смерти и обстоятельства последних лет жизни остаются неизвестными.
И в том же 1754 году торжествующий Растрелли получает заказ на свое, едва ли не самое большое, строительство – петербургский Зимний дворец. Это высший взлет признания, славы и возможностей архитектора.
Но проходит семь лет. Уходит из жизни Елизавета Петровна. Сменяют друг друга на престоле Петр III и Екатерина II. Новые вкусы, новые любимые зодчие. Увлекавшаяся строительством Екатерина неслучайно придавала исключительное значение этому виду своей деятельности. Каково бы ни было действительное существо ее правления, выраставшие повсюду здания, армия зодчих и строителей по всей стране создавали убедительную картину бурного расцвета и развития государства. Только среди этой новой плеяды места для Растрелли не было. Его время кончилось в день смерти Елизаветы Петровны. Никакие предложения, проекты, самые смелые замыслы не могли заинтересовать новых правителей и побудить их обратиться к зодчему предшествовавшего царствования. Как когда-то Растрелли сменил Трезина в Преображенском соборе и Аничковом дворце, так теперь самого Растрелли сменят другие архитекторы в оформлении интерьеров его же Зимнего дворца.
Но Екатерина не любит производить тяжелого впечатления категоричностью своих решений. Сначала получивший фактическую отставку, зодчий получает возможность на целый год уехать в родную Италию. Родную – когда вся его жизнь связана с Россией! Императрица надеется, что Растрелли поймет скрытый намек и останется в почетной ссылке. Но если Петр Трезин искал путей осуществления своих прав зодчего, Растрелли слишком давно этими правами располагал и не был в состоянии примириться с мыслью об их потере. К величайшему неудовольствию Екатерины, он возвращается в Россию и тогда получает официальный отказ. Русский двор больше не нуждается в его услугах.
Растрелли делает последние попытки напомнить о себе. Курляндия, куда возвращается после ссылки Бирон, не открывает никаких перспектив. К тому же Бирон-младший тяготится стареющим мастером и мечтает о приглашении модного архитектора. Поездка в Берлин, ко двору Фридриха Великого, не приносит ни заказов, ни благосклонности чужого монарха. Новая поездка в Италию связана с мыслью о торговле в России работами итальянских живописцев, но коммерческие предприятия не в характере зодчего. Ему суждено умереть в Петербурге в стесненных материальных обстоятельствах и всеми забытым. Дата смерти и место могилы останутся неизвестными.
Составляя списки своих сооружений, Растрелли не забывал приводить и имена учеников – все они стали заметными зодчими. Ученики были и у Петра Трезина, но все они переводятся в помощники к Растрелли. Здесь и ставший строителем Ораниенбаума П. Ю. Патон, и родоначальник известной семьи крепостных художников Федор Леонтьевич Аргунов. Даже в педагогической деятельности звезда Растрелли оказалась для Трезина роковой.
Климент – помнил ли о нем в своих жизненных перипетиях зодчий, имел ли возможность заниматься своим детищем в первые годы строительства или и здесь остался в стороне в силу дипломатических ходов, царедворческих хитросплетений, расчетливой скупости заказчика? Возвращался ли мыслями к Замоскворечью, живя в Италии? Знал ли, что проект так и остался не реализованным до конца?
Время, казалось, стерло с одинаковым равнодушием и имя архитектора, и имя строителя. И только Климент сохранил память, непреходящую память жемчужины искусства о своем создателе, а рядом с ним невольно и о том, в чью человеческую судьбу этот памятник остался вплетенным: Петр Трезин – Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.
Петербург. Зимний дворец
Императрица Елизавета Петровна и М. Е. Шувалова
– Кто еще там?
– Я, государыня-матушка, я, голубушка ты наша.
– А, Мавра. Сказала ведь, кажется, чтоб никому ко мне не входить.
– Сказала, государыня, сказала. Только уж лучше разгневайся ты на меня лютым гневом, чем так молчком-то сидеть. Брани меня, старую, сколько душеньке твоей угодно, взашей толкай, да одна не оставайся. Мыслимо ли дело – окошки завешаны, ставни день-деньской заперты, у дверей Чулков как пес цепной, чтоб не заходил никто. Да за что ты, матушка, на всех нас прогневалась? Одних видеть не хочешь, других не казни.
– Никого не хочу. Ступай прочь, Егоровна.
– Нет, государыня, нет, разве что прикажешь кому связать да выволочь. На кулаки пойду, глаза кому хошь выцарапаю, а подле тебя останусь.
– Да что тебе надо? К чему это ты?
– Нельзя же так, Лизавета Петровна, себя тиранить. Ну тошно тебе, ну свет белый немил, так пройдет это, пройдет. Вон какие припадки бывали, да отступила же хворь с божьей помощью. Коли и вернется, так снова отступится.
– Не отступится. Чего ей отступаться! Видно, срок мой подходит.
– Не смей, не смей слов таких говорить – откуда взялись они у тебя, государыня! Еще в дурной час, не дай господи, молвишь. Чего ты беду-то накликаешь!
– Чего ее кликать – у ворот стоит дожидается.
– Про болезнь вот говоришь, а как же после припадков-то первых – уж на что сильны были – и понесла, и дочку родила, красавицу писаную, да сама расцвела как маков цвет, – смотреть загляденье.
– Не надо бы рожать.
– Чего не рожать – кому от того убыток Только одно скажу, хоть и без меня про то знаешь, в болезни да в старости дите не родишь.
– Когда то было…
– Как – когда? Да ты что, матушка, в себе ли? Лизаветушке-то всего шесть годков, а ты – когда. Вот поглядишь, как девонька наша вырастет, в годы войдет, заневестится, тогда и станешь о прошедшем-то времени горевать, а сейчас чего?
– Присмотрелась ты ко мне, Мавра, аль утешить хочешь, добрая душа. Глядела ты на меня?
– Как – глядела? Мне ли тебя, матушка, не знать? Да я с закрытыми глазами всю тебя как есть вижу.
– То-то и есть, что с закрытыми. А ты открой глаза-то, открой, погляди, что с лицом-то моим стало. Гляди, гляди, болтать потом будешь!
– Так чего углядеть-то я должна?
– Не должна, а так оно и есть – гляди, морщин сколько. У рта легли, под глазами рябят, шею шкурой лягушечьей свели.
– Господи, ну и удивила. Да если так глядеться, матушка, стекло увеличительное возьми – с ним и не то разглядишь. А пудра на что, притиранья-то наши? Если чего и мелькнет, враз и прикрыть можно.
– Да не хочу я прикрывать. Хватит! Никакие притиранья не помогут. Сквозь какую хошь пудру борозды идут.
– Да мерещится тебе, Лизавета Петровна, ей же богу мерещится. Хоть у Ивана Ивановича спроси. Даром, что ли, он на тебя как на икону глядит, глаз не сводит.
– Только мне Ивану Ивановичу морщины-то и показывать! Поверенного какого бабьих горестей отыскала. Ему, может, еще хороша, да надолго ли.