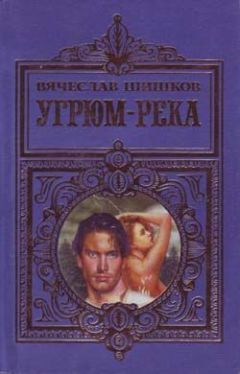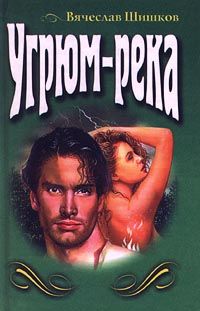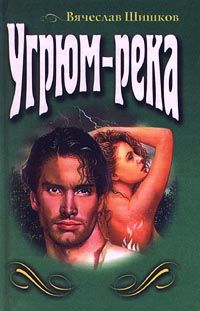– Ты, сукин сын, на столе ничего не сшевеливай! Понял? Адиёт...
Времени много, барин вернется к семи. Иван развалился в кресле пред письменным столом, закурил хозяйскую трубку, надел на горбатый, перебитый в драке нос хозяйское пенсне и, скривив губы, крикнул:
– Иван! Штиблеты...
– Пшел к черту! – задирчиво ответил сам себе Иван. – Сам возьмешь, немецкая твоя харя, мериканец, черт!
– Иван! Я тебе по русской морде ударю...
– А вот попробуй-ка. На-ка, выкуси, черт немаканый... Да я тебе и во щи и в кашу наплюю достаточно... Жри!
– Иван! Я на тебя мистер Громофф пожалуюсь.
– Плевать я хотел на твой мистер Громофф. Для тебя, может, мистер, а для меня – тьфу! Да знаешь ли ты, немецкий мериканец, вот мы ужо твоему мистеру Громофф забастовочку загнем... Пролетарии всех стран, соединяйтесь! – ты читал? Ты взгляни-ка, какие грамотки у меня в подушке есть... Чихать смешаешься...
Иван сбросил пенсне, открыл рот, прислушался: в кухне гремела посуда – забравшись на стол, пудель жрал накрученный для котлет фарш.
Прохор жалел, что выбрал такой дождливый день для поездки с Филькой Шкворнем. Но он не любил отменять своих распоряжений. Оба верхами, в кожаных архалуках. Путь труден, едут тайгою прямиком, без троп: бродяга вооружен чутьем, Прохор – ориентир-бусолью.
Сейчас полдень, но тайга в сумеречном свете, в мороке. Дождь стихает, в небе кой-где расчищаются голубые полянки, вот солнцев луч ненадолго осиял тайгу, свежую, омытую, густо унизанную каплями алмазов. Стало хорошо кругом.
За семь часов пройдено всего лишь сорок верст. Лошади измаялись. Тайга в этом участке малопроходима для коня, здесь медведь – хозяин. Ему нипочем все эти полуистлевшие, перевернутые вверх корнями пни, похожие в сумерках на лесных чудовищ, эти трухлявые колоды-трупы, из чрева которых победоносно прет новый молодняк, эти нагромождения тысяч поваленных бурею дерев, образующих огромные заломы; их трудно одолеть даже сказочному Сивке-Бурке. Все это поросло быльем, чертополохом, бояркой, крушиной, папоротником, и кой-где алеют кумачовые семейства мухоморов. Не место здесь человеку, даже птиц не видно, – разве что дятел пропорхнет, – здесь царствует медведь, на вершинах же дерев невозбранно владычествует белка.
В летний солнцепек, когда воздух застоится, над этим кладбищем девственных лесов густо висит какой-то особый аромат земного тлена, от него звенит в ушах и начинает кружиться голова. Подальше от такого места в летний жаркий день!
Но вот тайга оборвалась. Путники поехали тальвегом неширокой каменистой речки Камарухи. Заночевали, еще шли день.
– Скоро прибудем, – сказал бродяга. – До вершины речонки верст с десяток отсюдова. Там и столбы наставлены.
Увидели дымок.
– Вот это самое место и есть... Самое золотое, – сказал Филька Шкворень.
– А нас не пристрелят здесь из-за куста? – И Прохор взял в руки винтовку.
– Да нет, поди, – неуверенно ответил бродяга. – Конешно, поручиться за шпану нельзя... Она, кобылка востропятая, блудлива другой раз.
Прохор в мыслях пожалел, что не прихватил с собой двух-трех стражников. И заторопился.
– Поедем поскорей. К ночи хорошо бы домой.
– Я тебя отсель на твой прииск выведу. А там дорога живет, к ночи добежим домой.
У речонки копошились двое бородатых оборванцев. У них примитивное, сколоченное из самодельных досок приспособление для промывки золотоносных песков, нечто вроде вашгерда. В дощатый лоток сваливалась песчаная порода; ее привозил на тачке третий бродяга, а двое других большими ковшами лили на песок воду. Вода увлекала породу по наклонному, выложенному грубым сукном дну лотка. Золотые песчинки осаждались на сукне, маленькие самородки задерживались возле деревянных планок, набитых поперек лотка, поверх сукна, в расстоянии около аршина друг от друга. Промытый же песок скользил дальше, вниз.
Прохор поздоровался. Старатели бросили работу, еще трое подошли с песков. В их руках железные лопаты с очень коротким древком.
– Кто вы такие? Зачем путаетесь по этакой гиблой трущобе? – спросил кривой старатель.
– Мы громовские приказчики, – ответил Прохор. – Слыхали про Громова? – хвастливо спросил он.
– Как не слыхать! Слыхали... Зверь добрый, – двусмысленно сказали старатели и переглянулись.
Прохор смутился. Хотел в спор вступить, да побоялся. Чтоб застращать, спросил:
– А вы, ребята, не видали – наши стражники должны сюда выехать, пять человек?
Старатели опять переглянулись, сказали: нет.
– Ежели есть у вас золото, я бы купил, – предложил Прохор.
– Есть-то есть... А какой толк в твоих деньгах? Деньги в тайге – тьфу! Нам одежда да харч надобен. Вот ежели б ты спирту привез али девок парочку... Слышь, торговый, снимай кожаный шебур, меняй на золото. Нам надобен...
Прохор отказался.
– Тогда ружье сменяй.
Филька Шкворень шепнул:
– Поедем, барин...
Когда кони на рысях пошли в тайгу, старатели прошили воздух пугающим резким свистом, кто-то крикнул:
– Пульку жди!.. Гостинчик...
По спине Прохора пошел мороз: он знал много рассказов о том, как старатели охотятся за двуногим зверем. Филька Шкворень успокоил его:
– Не бойсь... У них, у варнаков, окромя лопаты, нет ни хрена, – и поехал сзади, загородив собою Прохора.
Вскоре отыскали полусгнивший столб с государственным гербом. Прохор понял, что золотоносная местность эта действительно кому-то принадлежит. Он решил приехать сюда с землемером и рабочими, чтоб наметить новые границы и сделать заявку от себя.
Филька Шкворень теперь ехал впереди. Рельеф местности резко изменился. Стали попадаться каменистые окатные сопки, остряки ребристых скал. Ни кедров, ни елей – шел сплошной сосняк. Ехать было легко. Однако часа через два стало темнеть. В этих краях Прохор впервые.
– Сколько ж ты считаешь отсюда до моего прииска «Достань»?
– Да верст тридцать с гаком, поди.
Остановились на небольшой полянке, покормили лошадей.
– Мимо «Чертовой хаты» будем пробегать, – сказал бродяга.
– Не слыхал такой.
– А вот увидишь... И стоит эта хата на самой вершине скалы, об одном окошечке... Иной раз огонек в ней светится, дымок из трубы крутит. Так сказывают, живет в ней какой-то цыган-бородач, а с ним карла безъязыкий, его цыган на цепи держит. И чеканят они там червонцы фальшивые. Цыган-то этот – то ли разбойник, то ли колдун... А другие болтают: огненный змей живет в избушке, черт. Ежели один, да без креста, – лучше не ходи: либо до смерти нарахает, либо с пути собьет. Другие, которые из нашей шпаны, прутся мимо избушки, не знавши... Ну и крышка... Пойдут, да так и до сей поры ходят. Вот, друг, Прохор Петрович, вот. – Бродяга осмотрелся, подумал и сказал: – Скоро увидим... Крест-то на тебе?
– Да. А ты тоже с крестом?
– А то как? Со святого крещения ношу... Со младенчества.
Прохор улыбнулся, потом захохотал.
– А когда людей убивал, крест снимал с себя, что ли?
Бродяга засопел, нахмурился, нехотя ответил:
– А ты, слышь, брось вспоминать об этом. Было дело, а теперь – аминь.
Прохор тоже нахмурился:
– Напрасно...
– Что напрасно?.. – повернул к нему бродяга хмурое свое лицо.
– В царство небесное все равно не попадешь. Да, надо полагать, его нет. А я, признаться, на тебя виды имел...
Филька Шкворень сразу понял намек хозяина, приподнялся на стременах и на ходу снял с себя кожаный архалук, чтоб было свободней вести любопытный разговор. Он был прилично одет, подстрижен, вымыт, ничего бродяжьего в его внешности не осталось.
– Эх, милый!.. – вздохнул он. – Понимаю, понимаю. Только вот что тебе скажет Филька Шкворень: убивец Филька в вере Христовой тверд. Одно дело по приказу убить, другое дело – по разбойной волюшке своей. Филька Шкворень по приказу убьет кого хочешь и не крякнет... Этот грех так себе, пустяшный, отмолить его – раз плюнуть, а Царь Небесный до человеков милостив... А вот ежели своевольно человека укокошить по великой ли, по малой ли корысти, тогда держись... Тогда, ежели не приведет Господь спокаяться, гореть убивцу в неугасаемом аду... Вот как, сударик, вот как... – Бродяга нахлобучил картуз, нервно позевнул и торопливым движеньем руки закрестил свой рот.
Такая идея оправдания наемного убийства, с переложением ответственности на плечи нанимателя, заинтересовала Прохора. Холодный смысл слов бродяги: «Найми, и я убью», – резко отпечатался в его сердце, как на камне гравировка. С какой-то боязливой удивленностью он скользнул взглядом по бродяге, затих душой и крепко призадумался над своими делами, над путями дел своих.
Проехали в молчании еще верст пять. Бродяга вдруг заорал:
– Гляди! – и взбросил руку. – Эвот она, «Чертова-то хата»; глянь, огонек горит.
Сперва серела в полумраке каменная громада. Дикая скала почти отвесно выпирала из земли торчком. Прохор посмотрел в бинокль: на самой вершине скалы – изба, в окошке слабый огонек. Путники стегнули лошадей, объехали скалу кругом. Грани ее совершенно неприступны: они голы, гладки, отшлифованы тысячелетними ветрами.