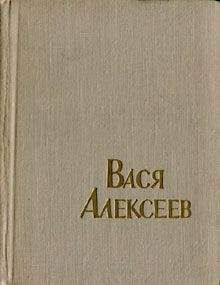Утром Вася идет через проходную задолго до смены. Еще совсем темно. Городовой и сторожа у ворот глядят на него сонными глазами. Он проходит мимо, парнишка в черном засаленном пиджачке и в синей кепчонке в рубчик. Он идет, тихонько напевая сквозь зубы. Ему весело и жутковато. Отучит сердце и похрустывает пачка бумажек, лежащих под рубахой. Но это слышит он один.
А напевает он что-то божественное. Если б сторож прислушался, то легко узнал бы молитву: «Спаси, господи, люди твоя…» Наверно, решил бы, что парнишка из церковного хора. Но сторожу и прислушиваться лень, ему хочется спать. И как бы он ни слушал, он не догадается, что Вася положил на мотив молитвы вовсе уж безбожные слова «Марсельезы»:
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
Слова Вася произносит в уме.
В мастерской совсем тихо. Только шорники возятся у станков, что-то чинят, сшивают порвавшиеся ремни.
Вася быстро скользит по проходам, и там, где он был, остаются небольшие серые бумажки.
К тому времени, когда мастерская наполняется людьми, он уже сделал свое. Теперь можно пройтись спокойно и осмотреться. Рабочие возбужденно переговариваются: «Правильно написано…»; «В самую точку…»
Маленькие серые бумажки мелькают в руках у людей. Одни, заметив листовку, жадно хватают ее и тут же принимаются читать, другие, опасливо оглядевшись по сторонам, быстро прячут ее в карман. Кто-то, может быть, понес уже серый листок в конторку. Есть ведь в мастерской такие, что держат в кармане «конька» — значок с изображением Георгия Победоносца. Значки выдает своим членам черносотенный «Союз русского народа». Открыто нацепить «конька» на заводе ни один самый оголтелый черносотенец не смеет. Но если конек лежит в кармане, такому человеку большевистская листовка не может быть по нутру…
Возле уборной Вася слышит громкий крик, ругань и плач. Дверь открыта, и он заглядывает туда. Посредине уборной стоит здоровенный хожалый и держит за ворот парнишку ростом не больше Васи. Это Андрюшка, ученик токаря из их мастерской. В руках у хожалого листовка, одна из тех, которые Вася раскладывал по станкам полчаса назад. К оборотной стороне прилипли раздавленные кусочки бело-синего мраморного мыла.
— Говори, где взял эту пакость?! — кричит хожалый и тянет Андрюшку за ворот.
— Да на полу же нашел, — бормочет Андрюшка, всхлипывая и размазывая по лицу слезы. — Ой, матушки, я для порядку старался, а ты меня душишь теперь. Что я у вас тут знаю? Валяется объявление на полу, я и подумал: дай повешу его на стенку, наверно, оно оттуда упало.
Он сопит, хлюпает носом, а глаза горят озорством.
Хожалого и Андрюшку обступает толпа. Вася пробирается поближе.
— Дяденька, а дяденька, — говорит он тонким голоском, — мы же маленькие еще, ничего в ваших бумагах не понимаем. Пусти ты Андрюшку, он и читать толком не умеет.
Андрюшка вопит всё громче. Хожалый неуверенно смотрит на мальчишек.
— Дураки вы, — говорит он. — Объявление… Разве начальство станет вешать объявления в отхожем месте! Это смутьянская бумага. Другой раз увидите такую, сразу несите мне!
— Прямо тебе? — переспрашивает Вася, делая дурашливое лицо.
Андрюшка между тем выскальзывает из уборной.
— Мы маленькие еще, не понимаем, — твердит Вася.
Ему весело, как, может, не было никогда. Ему хочется смеяться и петь.
Хожалый подозрительно оглядывает его и уходит. Вася делает несколько шагов следом, уморительно подражая его медвежьей походке.
Ай да Андрюшка, золотой же парень! Вася и не знал, что у него уже есть такой помощник. А хожалого они здорово провели. Опять помогло то, что они малы.
Но он уже не маленький, он только ростом невелик. Пускай Дмитрий Романов зовет его сынком и другие рабочие начинают его называть так всё чаще. В Емельяновке, когда он был совсем еще карапузом, ребята прозвали его «папаней», а тут он «сынок». Всё словно наоборот. Но в имени, которое дала ему пушечная, нет и малейшей насмешки. В нем звучит уважительная и ласковая сердечность.
Вася больше не мальчик на побегушках. Мастер смилостивился, наконец, и поставил на токарный станок. И завод уже его не подавляет. Да, тут тяжело, порой даже невыносимо, и все-таки здесь средоточие всего самого интересного и важного в его жизни.
Он становится своим человеком в огромной пушечной мастерской. Он уже многих знает, и многие знают его.
Он никогда не делал усилий, чтобы завести друзей, и всегда у него было их множество. Так уж получалось само собой. Сверстники и старшие чувствовали в нем отзывчивое и бескорыстное, открытое сердце, и это привлекало к нему их сердца.
В обед молодые ребята прибегают из дальних пролетов:
— Васюха, поделись завтраком!
Уже известно, что он частенько забывает взять с собой хлеба, зато его карманы всегда набиты книжками. «Васин завтрак» — так их называют. Этой пищей он охотно делится с друзьями, как, впрочем, поделился бы и ломтем хлеба.
— Васюха, — говорят ему, — ты просто ходячая библиотека, вон читателей сколько завел! Брал бы хоть по копейке за прочтение, как Женька с Богомоловской, мот бы тогда много книжек накупить.
— Нет уж, копейки пусть остаются при вас.
Женьку с Богомоловской Вася знает. Может, и не стоит говорить про него плохо. Женька собирает книжки, и копейки, полученные от читателей-сверстников, честно тратит на покупку новых книг. Есть у него и хорошие, только слишком уж много пинкертонов.
У Васи денег, конечно, маловато. Он стал покупать книги давно, только раньше на это шли лишь случайно перепавшие гроши. Теперь есть свой заработок, и тратить можно побольше, хотя не столько, сколько хотелось бы. Но как бы там ни было, а библиотечка, сложенная у него дома в сенях, растет. Часть книг приходится держать в сарае, не хватает места.
— Приходите ко мне в Емельяновку, — говорит Вася новым товарищам. — Там подберете книжки по душе. Поговорим, почитаем вместе.
Так начинает складываться вокруг него кружок молодых рабочих.
И вместе с тем у Васи становится всё больше взрослых друзей. Со стороны это, наверное, кажется странным — какая может быть дружба у Дмитрия Романова с пятнадцатилетним учеником токаря, с мальчишкой, которого он сам зовет Сынком?
Впрочем, они совсем не выставляют эту дружбу напоказ.
— Ты вечерком дома? Заглянем к тебе, — говорит иной раз Васе его друг. Или приглашает к себе. Всегда этот короткий разговор ведется так, чтобы не услышало чужое ухо.
И вот собираются вечером несколько рабочих — молодые и пожилые. Сидят за самоваром в комнате или на кухне, пьют из толстых стаканов чай с крепким голубоватым рафинадом, наколотым острыми кусками. Такой рафинад в потребиловке продается целыми головами, завернутыми в плотную синюю бумагу. Его можно взять в долг, если, конечно, ты не исчерпал кредита, который положил тебе цеховой конторщик.
О кредите тоже заходит речь за столом у самовара. Надо, чтобы молодые ребята всё понимали.
Кредит тебе открывают, вроде заботятся о тебе. А в самом деле кредит — это еще одна петля-удавка. Вечно ты в долгу у хозяев. И товары тебе сбывают самые завалящие. В другом месте, может, купил бы лучше и дешевле, но там надо платить наличными, а наличных нет, вот и бери в долг, что дают. В получку с тебя всё удержат, и, глядишь, нет уже получки, лезь снова в долги. А лучше всего узнаешь прелесть кредита, когда начнется забастовка. Тогда начальство закроет кредит, и ты сразу останешься без хлеба.
Сахарная голова стоит на комоде, возвышаясь, как белая башня. Верх у нее закругленный и на самой макушке выемка, точно маленькая чашка.
— Из такой чашки, слышал, царь чаи попивает. Сладкая жизнь у царя, — посмеивается Романов — царский однофамилец, большевик.
И тут же взрывается, трясет головой:
— Его, окаянного, не напоишь чаем. Ему кровь подавай, душегубу.
— Сердитый ты сегодня, дядя Митя, — говорит Вася.
— Сердитый? Да, я сердитый. — Романов стучит кулаком по столу. — В деревне, знаешь, что творится? Голодуха такая, что даже кадетские газеты об этом заговорили. Мужики лебеду едят с глиной… От голодного тифа пустеют целые села.
Обо всем этом Вася знает. Не только из газет. После нескольких лет затишья завод снова расширяет производство и набирает людей. Возвращаются старые рабочие, уезжавшие от безработицы в деревню, приходят и новые — тоже из деревни. Они рассказывают страшное о недороде и голоде.
— Почему все-таки у нас вечные голодухи? — спрашивает Вася. — Не от бога же это, в самом-то деле.
— При чем бог, если царь да помещик с кулаком грабят людей? Богом только головы дурят народу.
Романов окидывает взглядом сидящих за столом и достает из кармана сложенный вчетверо листок.
«По широкому раздолью российской земли распростер свои могучие крылья наш царь беспощадный. В его леденящих объятиях очутились десятки миллионов русских крестьян. Они голодают! Опять голодают!»