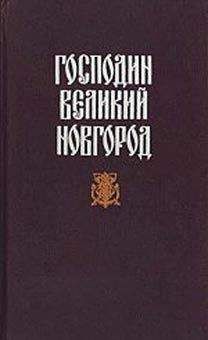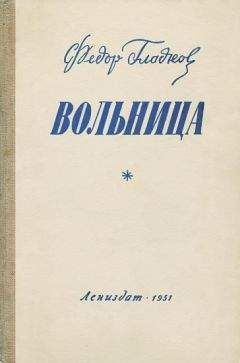– На сей раз довольно! – сказал владыко, вставая со своего места.
На его лице ясно отпечатывались следы глубоких дум.
Все встали за ним.
Колокол ударил несколько раз, означая окончание заседания, и народ, трепетно, с каким-то вещим, недобрым предчувствием смотрел на бояр, тихо и задумчиво расходящихся по домам.
Ярко и весело светил месяц на землю, звездочки при нем чуть искрились, то пропадали, то снова сверкали в темной синеве горизонта, как резвые рыбки в чистой воде блистают своей серебристой чешуей.
В Новгороде ярко горели огни, но мрак вечера давно уже сгущался; наступила ночь, светлая, роскошная. Огни один за другим стали потухать, и скоро вечно живой город, слившись с горизонтом в один бледный свет, затих и заснул.
На берегу реки Волхова сидел, пригорюнившись, добрый молодец. С правой стороны его стоял оседланный конь и бил копытами о землю, потряхивая и звеня сбруей, слева – воткнуто было копье, на котором развевалась грива хвостатого стального шишака; сам он был вооружен широким двуострым мечом, висевшим на стальной цепочке, прикрепленной к кушаку, чугунные перчатки, крест-на-крест сложенные, лежали на его коленях; через плечо висел у него на шнурке маленький серебряный рожок; на обнаженную голову сидевшего лились лучи лунного света и полуосвещали черные кудри волос, скатившиеся на воротник полукафтана из буйволовой кожи; тяжелая кольчуга облегала его грудь.
Он молчал и лишь порой затягивал какую-то заунывную песню, глядя пристально и печально на Новгород и считая рассеянно волны, бившиеся о берега.
Вдруг ему послышался приближающийся от города звук конских копыт.
Он приложил ухо к земле – звук слышался явственнее, и конь его насторожил уши. Вскоре показался конник, осматривающий окрестности, как бы на поисках. Заслышав шорох у берега, всадник свернул туда своего коня, вгляделся на полулежавшего молодца и, радостно вскрикнув: «Чурчила!», соскочил с лошади и заключил его в свои объятья.
– Постой, Дмитрий, ты задушишь меня, как слабого ребенка, – заговорил Чурчила (это был он) в свою очередь дружески обнимая прибывшего, – я и так насилу дышу: у меня на сердце камень, а в душе – сиротство бессчастное!
– Так вот как поступают наши задушевные-то! – воскликнул Дмитрий. – Помчался ты, как вихрь, невесть куда, и не сказал мне прощального слова! Бог тебе судья, Чурчила! А мы с тобой еще побратались на жизнь и смерть! Что я тебя обидел, что ли, чем, словом, или делом, или косым взглядом?
– Не кори меня ни тем, ни другим, брат названный, – вздохнул тяжело новгородский витязь. – Чудно тебе показалось отбытие мое из родного края, особенно же тогда, когда уже сковался я кольцом обручальным, но я еще чуднее дело поведаю тебе…
Крупная, как градина, слеза, скатившись по щеке его, разбилась о кольчугу.
– Да что ты, богатырская косточка, неужели и впрямь заплакал как баба? О чем же? Расскажи скорей, не терпится!
– Эх, замолчи молодецкое сердце! – заговорил снова Чурчила, ударяя себя в грудь. – Дай вымолвить тоску-кручину другу закадычному! Нет, я весел, Дмитрий, право, весел, как этот месяц, – продолжал он, прикидываясь веселым. – Да о чем тосковать? Красоток много на белом свете, а милая-то хоть и одна, да что ж? Если забыла она слово клятвенное, не в омут же бросаться от этого, чертям в угоду.
Он улыбнулся, но эта улыбка была скорее болезненной гримасой.
– Так-то это так, – отвечал в раздумье Дмитрий, – да вот мне невдомек: во-первых, я тебя не узнаю, ты ли это Чурчила-сокол, кистень-рука, веселый, удалой, всем пример, который, бывало, один выходил на целую стенку? Во-вторых, удивительно мне, как могла разлюбить тебя Настенька, новгородская звездочка? Хоть родитель ее, степенный посадник Фома Крутой, и впрямь крут, да твой родитель, Кирилл, тоже посадник, не хуже его, они же с ним живут в превеликом согласии; издавна еще хлеб-соль водят, так как и мы с тобой, бывало, в каждой схватке жизнь делили, зипуны с одного плеча нашивали, да и теперь постоим друг за друга, хоть ты меня и забыл, помощника своего, Дмитрия Смелого!
– Постой, брат, не язви меня, дай передохнуть – все выскажу.
Глубоко и тяжело вздохнув, Чурчила начал:
– Ведомо тебе хлебосольство и единодушие отца моего с Фомой и то, как они условились соединить нас, детей своих; помнишь ты, как потешались мы забавами молодецкими в странах иноземных, когда, бывало, на конях перескакивали через стены зубчатые, крушили брони богатырские и славно мерились плечами с врагами сильными, могучими, одолевали все преграды и оковы их, вырывали добро у них вместе с руками и зубрили мечи свои о черепа противников? Бывало, радость привольная охватит удалых такая, что десятью языками не сможешь рассказать о ней. А тот восторг, который чувствовал я в душе при взгляде на мою суженую, когда благословили нас Пречистой, когда вложили руки ее в мою и наказали нам жить в любви и согласии, – восторг, вознесший меня на седьмое небо!.. Ах, Дмитрий, если бы ты знал, если бы ты мог знать, как билось мое ретивое!.. Бывало и смерть была мне близкой соседкой, и острие меча мелькало перед самыми глазами, но я не пугался: отобьешь его, да свое запустишь по самую рукоять – и прав – и понесся далее, а тогда… О! Нет, не умею!.. Какая она была красивая, как понимала меня!.. Как хотела нежить мою буйную голову на коленях своих!.. Настя, добрая, милая моя Настя!
С этими словами он крепко сжал руку Дмитрия и упал головой к нему на грудь, стараясь скрыть выступившие на глазах слезы, которых он стыдился.
Раздались сначала тихие, а потом громкие рыдания.
– Не одна она, и я понимаю тебя, добрый друг! – говорил Дмитрий, обнимая Чурчилу.
– Да, теперь ты у меня остался один, один на всем белом свете; теперь он почернел для меня: «Отсветила звезда моя, отсветила приглядная, покрылась саваном, небо туманное»… Как это дальше-то поется эта песня, которую сложил Владимир-утопленник?
– Полно, не обманывай ни себя, ни меня: до песен ли тебе, лучше расскажи, как поется дальше твоя песня…
– Слеза смыла пятно тоски задушевной, как будто я поделился ею с тобой! Отлегло немного от сердца. Слушай же далее! Я, как водится, с большим поездом сватов и дружек, стал ездить к невесте своей разгульно и весело!.. Пиры у нее на столах высились горами, напитки лились рекой, и назначили уже день, когда совершить наше благословенное дело. Этот день был торжеством для всего народа, день памяти по святой Софии, к которому отец Насти Фома, хотел совсем приготовиться. Все шло своим чередом: старики наши отдались радости и руками и ногами, а дружки и все гости всей головой, пили они как на заказ, а мы… да что и говорить, так было привольно всем!.. Вдруг, точно ворон накаркал беду на нас бедных, нагрянул гонец из Москвы – и все пошло прахом. Дорога мне моя Настя, не возьму я за нее всего мира подлунного, но родина… Сожму ретивое, заставлю молчать его и променяю бесценную мою, стотысячную, на бесценнейшее сокровище – отчизну… После пусть сам умру бесчисленное число раз, не проживу мига без нее, зато на душе не будет зазорно.
Чурчила молодецки тряхнул своими кудрями.
Дмитрий молча слушал исповедь друга.
– Ты знаешь клевретов Марфиных, – продолжал тот. – Они, в том числе и Фома, зачинщик всему делу, задумали опять подчиниться Литве, а у нас с тобой никогда не лежало сердце к этой челяди. Я, услышав об этом, прорвался в думскую палату и горячо заговорил с Фомой. Не понравилось ему это, рассерчал он на меня и обозвал обидными словами. Я тоже и при отце своем, и при всех советных мужиках задал ему такую отповедь, что пристыдил его и тем накликал на себя немилость и ненависть. Когда же сердце мое отошло, остыло от обид его, я спохватился. Отец мой принял его же сторону и послал меня повиниться перед ним. Я тотчас ринулся туда, куда душа моя давно просилась, и стал молить его забыть обоюдные распри наши и покончить скорей начатое дело.
Чурчила перевел дух.
– Когда бы ты видел, как он рассвирепел на меня! «Одно условие, – рявкнул он как зверь, – и я прощу тебя и назову сыном: приходи завтра на вече и на коленях при всем собрании вымоли у меня прощение вины твоей. Да еще согласись на все помыслы наши: преклони голову перед прибывшими литвинами, и, всячески их приветствуя, моли заступиться за родину. Иначе выкинь из головы когда-либо называться моим сыном, да и дочь моя выбрала уже себе другого суженого». Слова эти затронули меня за живое. «Ползают одни гады, – отвечал я ему резко, – а приветствовать литвин я должен не языком а мечом. Когда бы им посчастливилось добыть меня живьем и, загнув голову, держать нож над горлом, и тогда бы не стал я унижаться и чествовать их, просить пощады у заклятых врагов наших!» – «Так если же ты когда-либо занесешь ногу свою через подворотню мою, – завопил он, – я затравлю тебя лихими псами». – «Да я и не захочу встречаться с тобой, ты злей их облаиваешь», – сказал я ему, как отрезал, и так сильно захлопнул за собой калитку, что ворота затряслись и окна задребезжали.