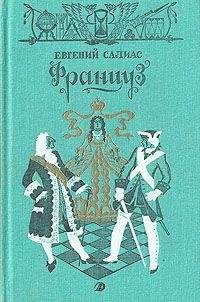Этим определением Глебов хотел выразить свою мысль и свое убеждение, что только в России водятся такие люди, как Живов.
Когда Живов вошел к генералу, то этот тотчас заметил сумрачное лицо гостя и даже несколько взволнованный вид.
— Здравствуй, Иван Семеныч. Что затуманился? Из-за шустрого француза, что лезет?..
— Точно так, ваше превосходительство, — ответил Живов.
— Что же?.. Садись. Говори. Вместе рассудим.
— Я за этим и пришел.
— Ну, в такие лихие времена можно бы тебе и ездить начать, — пошутил и улыбнулся генерал, хотя, казалось, через силу.
— Да-с… Завтра же завожу таратайку. А то умаешься… Нынче верстов двадцать уж исходил. И сейчас от графа.
— Растопчина?
— Да-с… Прямо к вам. Только зашел к Гвоздю. Граф мне…
Глебов махнул рукой:
— Знаю наперед все, что скажешь. Сам я его видел вчера.
— Так как же? Стало быть, все правда? Под самой Москвой сраженье генеральное будет?
— Врет он. Потому врет, что он этого знать не может. Кутузов и тот может предполагать дать сражение в таком-то желаемом месте, выгодном для диспозиции войск. Но и он не может знать, примет ли неприятель сражение.
— Как тоись?
— Так… Мало ль что. Я захочу с тобой на кулачках здесь драться. А ты удерешь вон в ту комнату, а там в третью и выберешь ту, которую облюбишь, а то и совсем улепетнешь… Ведь Бонапарт еще с Вильны ждет, что его мы встретим и дадим генеральное сражение. Однако мы пятимся и пятимся от него.
— Зачем?..
— Это их дело. Нынешних полководцев тактика новая! — презрительно улыбнулся Глебов. — Мы не так действовали. Мы пятиться не умели. Суворов раком не ходил, а орлом летал.
— Как же это, Сергей Сергеич, понять? Прежде сказывали, что Барклай и Багратион спорят и друг дружке на смех делают, забыв опасность и долг пред царем и отечеством. А теперь вот у них наибольший… А делает то же самое. А ведь как все радовались, когда генерала Кутузова назначил государь! Говорили, что вот, мол, завтра от Бонапарта ничего не останется.
— Кутузов — умница, спору нет. И тоже у Александра Васильевича обучался. Но зачем он пятится — не знаю… Я так думаю, что будет генеральное сражение близ Смоленска… И — что Бог даст.
— А не под Москвой? — тревожно спросил Живов.
— Никогда! Пятиться до самой Москвы — бессмысленно и цели нет. Да и стыд! Прежде выберут позицию и дадут сражение. Коли Господь отвернется от нас и мы проиграем это сражение, коли будет новый Аустерлиц[23] у Бонапарта — ну, тогда иное дело, придется грудью Москву защищать с остатками разбитой армии.
Наступило молчание.
— Ну а нам что делать, ваше превосходительство? — спросил наконец Живов.
— Кому?
— Нам. Спаси Бог!
— Москвичам? Мне или тебе?
— Ну хоть бы вам да и мне?
— Я погляжу еще с недельку, — вздохнул Глебов. — А там в ополчение. А примут, то и в действующую армию чем ни на есть, хоть полком командовать на место какого убитого. Дело найдется!.. А то свою дружину заведу. Еще лучше.
— А мне?
— Тебе, дорогой мой Иван Семенович, дела никакого не найдется. Укладывайся, бери свои деньги и сиди наготове. Придет под самую Москву Бонапарт, то спасайся и миллионы спасай. Зачем им доставаться неприятелю?
— Нет, Сергей Сергеевич. Эдак рассуждать?! Вы ли говорите? Побойтесь Бога!
— Что же? Я не пойму.
— Всяк из нас, и стар и мал, должен что-нибудь делать, а не зайца изображать. Пускай это делают бабы, дворянки и купчихи. А я не баба и не срамник.
— Так что же ты хочешь делать?
— Вот за этим я и пришел. Научите!
Глебов развел руками:
— Дай денег на ополченцев.
— Уже дал триста тысяч и еще столько же дам. Но я не про деньги, а про себя самого говорю.
— Не в солдаты же тебе идти! — улыбнулся генерал.
— Зачем? Спаси Бог! Иное что… Поважнее. Научите!..
— Ей-Богу, не знаю. Ты можешь только жертвовать.
— Слышал. Это про деньги. А я себе, а не деньгам моим дела прошу. Подумайте и научите.
Но Глебов только развел руками и ничего не мог надумать. Живов ушел от генерала угрюмый и даже печальный…
Между тем, пока генерал беседовал с миллионером, в его доме случилось маленькое происшествие, которое потом долго и тщательно скрывали от него.
В девичьей среди горничных появилась и теперь сидела в ожидании хорошо всем известная в доме Софья Хренова. Но она смутила горничных своим взволнованным видом.
Софья решила не только защищаться до последней крайности, но даже решила хоть руки на себя наложить скорее, чем выходить замуж за «поджарого», как называла она молодого Тихонова. Разумеется, прежде всего надо спастись и бежать из дому. А монастырь или река — впереди!
Софья понимала, что это поступок отчаянный, но все-таки это не так страшно, как броситься в Москву-реку. Перебрав мысленно всех, к кому она могла бы спастись, она поняла, что каждое из их знакомых семейств ее выдаст головой и приведет обратно домой в тот же день. Единственный дом, где могли бы поступить иначе, в котором ей светился луч надежды, был дом генерала Глебова, где жила ее приятельница-княжна.
Осторожно ускользнув из дому в сад, Софья перелезла через забор к соседям и уже их садом и двором выскользнула на улицу, не замеченная никем. Очутившись на Девичьем поле, она бросилась бежать. Обширное, широкое и совершенно пустынное поле было теперь самой трудной частью пути. Если бы ее хватились в доме тотчас, то могли бы издали завидеть на поле.
Софья бежала, постоянно оглядываясь и ожидая погони, но наконец, уже запыхавшись, она приблизилась к большим барским палатам какого-то графа, завернула в переулок к Плющихе и пошла тише. Она была спасена, но что будет? Как примут ее в доме Глебовых? Что скажет и сделает княжна?
Через час ходьбы она уже была у Страстного монастыря, вошла во двор дома генерала с заднего крыльца, поднялась, как бывало всегда, и, встретив знакомую горничную, просила ее доложить княжне, а сама уселась в девичьей, бледная и тревожная.
Надя тотчас же приняла свою приятельницу, но изумилась, взглянув ей в лицо.
— Что с тобой, Софьюшка? — воскликнула она.
Софья долго не могла говорить, наконец оправилась, несколько успокоилась и объяснила свое положение. Княжна сидела перед ней, раскрыв свой красивый ротик.
— Как же так? — сказала она. — Я ничего не понимаю…
Софья снова начала было рассказывать, но княжна перебила ее вопросом.
— Я не знаю, чего ты хочешь? Я все поняла, но чего же ты хочешь? Какой толк из того, что ты убежала?
— Я хочу просить вас и генерала заступиться за меня. Пока я хочу остаться у вас несколько дней, скрываться, а потом хочу просить генерала заступиться.
Княжна была тронута отчаянным видом девушки, которую очень любила, но все-таки была смущена, не зная, что делать и с чего начать. Сначала она хотела было пойти к матери и все объяснить, но потом решила, что это ни к чему не поведет. Во всех важных случаях она знала, что ее мать никому не в помощь; поэтому, когда у нее бывало что-либо в жизни выдающееся, она обращалась к дяде — князю Черемзинскому. Иногда и прямо к дедушке. Но теперь идти к деду она опасалась. Случай этот казался ей чересчур важным и серьезным.
— Вот что, посиди тут, а я пойду к дяде.
И княжна, оставив Софью в своей спальне, выпорхнула и быстро полетела по большой парадной лестнице в нижний этаж, где жил в отдельных трех комнатах князь Борис Иванович.
— Дядя, страшно важное дело! — воскликнула Надя, взбежав в кабинет князя и застав его за клавикордами, где он разбирал какой-то романс.
Она отвела его от табурета, клавиш и нот, усадила на диван и снова заявила:
— Страшно важное! Слушай!
И она передала все то, что слышала от Софьи.
— Ба! Наша красавица — и в такой беде! Да уж кому-кому, а ей надо помочь.
Князь, добродушный, веселый и крайне легкомысленный, хотя уже пожилой человек, знал хорошо купеческую дочку, которая бывала у его племянницы, и всегда восхищался ее красотой, изумляясь, что в Москве урождаются такие «итальянки».
— Подумай, дядя, и скажи, как быть.
— Да что же тут! Оставь ее у себя ночевать, пускай пробудет несколько дней.
— А мама увидит?
— Матери скажешь, что Софья Ермолаевна у тебя гостит, что ее родные все уехали куда-нибудь, а ей дома скучно одной. А я ей тоже скажу, но сначала понемножку ее подготовлю. Впрочем, мне лучше всего самому расспросить обо всем Хренову. Пойдем к тебе! Укрыть у нас не трудно, да что толку из этого будет? Надо сказать сестре, конечно, и все объяснить ей, но потом и сестра не поможет.
Князь всегда называл так свою золовку. Надя, обрадованная, снова вбежала в верхний этаж и влетела к себе в комнату со словами:
— Дядя идет!..
Действительно, через несколько мгновений появился и сам князь. Едва он вошел в комнату, как преобразился и стал тем, чем был всю свою жизнь во всех гостиных и на балах. Князь не мог относиться спокойно к присутствию красивой женщины, кто бы она ни была. А так как он всегда восхищался Софьей, считая ее одной из самых красивых девушек Москвы, то и с ней он никогда не мог говорить попросту. Теперь, как и всегда, он стал ломаться. И голос у него был другой, и позы он принимал какие-то театральные. Но Софье было не до того, князь был ей всегда только смешон, а теперь она знала, что от этого человека зависит, пожалуй, ее будущность.