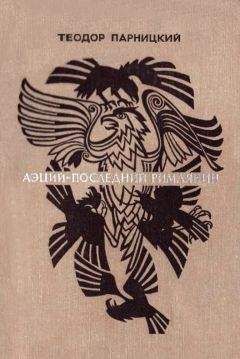— И покажешь мне комнату, где дядя Оттон спал с Феодорой Стефанией, — сказала Рихеза, опустив глаза. Произнесла она это особым тоном, каким обычно женщины говорят с мужчиной о спальнях других женщин. — Покажешь… покажешь…
В голосе Аарона прозвучала горечь и упрек.
— Как я тебе покажу?! Ведь ты же не едешь в Рим… Не могут же оба сразу покинуть Польшу, и наш государь и Мешко. Поэтому и терзаюсь я так этим отъездом супруга твоего в Чехию.
Теперь и в голосе Рихезы послышалась горечь, нет, даже не горечь, а только раздражение, с каждым словом приобретающее новые оттенки высокомерного удивления и одновременно какой-то холодной злости.
— А какие же это небесные или адские силы уведомились, достопочтенный аббат, что княжна Рихеза не может отправиться в Рим, если князь Мешко Ламберт остается в Польше?!
Удивление Аарона казалось беспредельным.
— Как это так, без супруга?.. На долгий срок?.. Без надобности на то? Не во время военного похода? Спустя неполный год после бракосочетания?
— Да хоть бы и на другой день после свадьбы. Ты бы хоть вспомнил, преосвященный аббат, что тебе дозволено говорить с правнучкой императора Оттона Великого, самодержца Рима! Сопровождать Болеслава в Рим должна именно я, прежде всего я. И не будет это смертным грехом гордыни, если скажу, что это был бы столь величественный въезд в Рим, равных которому еще не было: наследник могущества Оттона III Чудесного совместно с наследницей его крови и духа.
Аарон внимательно пригляделся к Рихезе, внимательно и вникающе, после чего вновь стал прохаживаться. Он ожидал, что она закричит на него, что поведет себя заносчиво, напоминая, какие он должен оказывать ей знаки почтения. Но она не сказала ничего, и он спокойно вернулся к своим мыслям. К архиепископу Ипполиту пока что не стоит обращаться, остаются настоятель Антоний и Тимофей. С Антонием видеться не очень хочется. Не переставая прохаживаться, он посмотрел на нее исподлобья, ожидая вопроса, почему же это ему не хочется встречаться с Антонием. Но Рихеза, казалось, где-то витала мыслями. Он видел ее профиль. И даже изумился: несомненно, точно такой же, как на геммах, камеях и диптихах, мастерски выполненных в честь той или иной базилиссы. Зато в цветущей розовой коже и темно-голубых глазах не было ничего греческого. Пышная саксонская девица, такая, как сотни других, что, стоя по щиколотку в воде, полощут холщовые рубахи в Эльбе или Мульде! И лишь Матильда, сестра Оттона III, Мешко Ламберт и служанки знают, светлые ли, германские, или темные, греческие, косы скрывает затканная серебром сетка на голубой подкладке, плотно облегающая хотя и хорошей формы, по, пожалуй, великоватую голову.
Не любил Аарон настоятеля Мендзыжецкого монастыря аббата Антония. Может быть, завидовал той дружбе и доверию, которыми дарил его Болеслав? Иногда приходил к выводу, что дело обстоит именно так. Но чаще полагал, что своими чувствами он лишь возводит твердыню для защиты от явной неприязни Антония. Уж тот-то ее не скрывал. Может быть, все из-за Тынца, который вырос вдруг на скалах под Краковом как обитель куда богаче, нежели Мендзыжец, и людьми, и добром, и землями, основанная радением Рихезы на свадебные дары Болеслава? Или скорей завидует Антоний его учености, тому, что удалось ему повидать свет, тому, что благоволили ему многие преславные мужи, в особенности папа Сильвестр?
Аарона поражала в Антонии предприимчивость, благодаря которой тот за короткое время стал из скромного послушника в самой суровой обители под Равенной незаменимым советником Болеслава, неофициальным, по всемогущим главой княжеской капеллы. Как-то он даже резко выразился, что, видимо, гордо отрешающаяся от суетных мирских дел пустынная обитель в болотах под Равенной по-разному образовывает души, видимо, в зависимости от материала, из которого господь эти души ваял: ведь вот Бенедикт в просьбе Болеслава взять на себя посольство по его делам к папскому двору вежливо, но решительно отказал, заявив, что прибыл на польские земли утверждать в вере вчерашних язычников, а не служить владыкам в мирских делах, — Антоний же без колебаний взял на себя княжеское поручение.
Было и еще кое-что, о чем Аарон говорил только с Рихезой. Когда в окружении Болеслава и в Кракове, и в Познани, и в Кросно, и в Будзишине дивились, до каких воистину недосягаемых пределов воспламенился Антоний истинно Христовой любовью к ближнему и святой способностью прощать, умолив князя не карать смертию убийц близких Антонию людей — Иоанна и Бенедикта, — Аарон, познавший благодаря папе Сильвестру и полной событий и опыта жизни трудную и горькую науку о тай-пах людского общежития, грустно улыбался, видя, сколько выгоды принесло мендзыжецкому аббатству приписание к нему помилованных убийц, дабы исполняли самую тяжкую, пожизненную работу в монастырском хозяйстве. И как-то даже заметил об этом при разговоре с Антонием с глазу на глаз.
Так что, хотя и был он уверен, что Антоний наверняка лучше знает, почему Болеслав отказался ехать в Рим, не хотел к нему обращаться. Лучше поедет в Познань к Тимофею. Завтра же. И поскольку за долгие годы он привык к мягким зимам на Мозеле и еще более мягким в Риме, не улыбалась ему долгая, утомительная поездка в санях, но это ничего, поедет. Рихеза радостно закивала. Только чтобы побыстрей возвращался, и с добрыми вестями. Может быть, узнает что-то такое, что даст возможность умолить Болеслава. Может быть, не станет упираться, когда они станут молить все вместе, и она, и Мешко, и сам архиепископ Ипполит, и Поппо, и Тимофей, и он, Аарон. А может быть, и Антоний.
— Передай Тимофею привет от жены Мешко, — добавила Рихеза в заключение. — Помню его, он приезжал в Кёльн и в монастырь в Эхтернахе, все хлопотал, чтобы ускорить мое обручение с Мешко… Красивый, каких мало бывает, верно? Послушай, а это верно, не выдумка, что он когда-то любил Феодору Стефанию?..
Тимофея Аарон знал с давних времен. Красивый, златовласый малый занимался поставками вина в римские монастыри, у которых не было своих виноградников. Через каждые десять дней спускался он с тускуланских взгорий впереди длинной вереницы ослов, нагруженных бочками и мехами. Не бывало такого за многие годы, чтобы ослы Тимофея вернулись в Тускул с тем же самым грузом, который доставили в Рим; нет, вместо бочек и мехов на спинах животных неизменно колыхались набитые мешки с цветными тканями и белым полотном, остроносыми башмаками, седлами и упряжью, а иногда и светильниками из бронзы или с цветными стеклышками. И вот как-то раз — это был девятый год пастырского правления папы Иоанна Пятнадцатого — стражники и нищие у ворот святого Себастьяна увидели необычайное зрелище: половина ослов Тимофея уносили на себе из города те же самые бочки, которые доставили. Златоволосый малый кусал губы и стискивал кулаки. На лбу у него был синяк.
В широкое окно библиотеки монастыря святого Павла Аарон видел, как Тимофей заработал этот синяк.
Он выходил с приором, громко крича и размахивая руками, извергая угрозы и проклятия, которых Аарон разобрать не смог из-за расстояния, отделяющего окно библиотеки от калитки, и еще потому, что речь и Тимофея и приора настолько отличалась от книжной латыни, Аарон понимал лишь отдельные слова. Легче ему было разобрать речь приора, который куда спокойнее, хотя тоже возбужденно, резким тоном объяснял, что никакие крики и угрозы не помогут и не к чему сбавлять цену и поставлять лучшие сорта — монастырь святого Павла вошел в клюнийскую конгрегацию и согласно с уставом клюнийских братьев будет брать отныне от тускуланских графов лишь столько вина, сколько требуется для богослужений и для стола отцов и братии, в строго определенном и весьма ограниченном количестве.
И тут Тимофей дерзко засмеялся и крикнул что-то, чего Аарон совсем не разобрал, но что, видимо, было оскорбительным и для клюнийской конгрегации, и для приора лично, потому что лицо у того гневно исказилось и побледнело. Но он ничего не сказал, а, резко повернувшись, ушел в обитель. Зато стоящий у калитки огромный монах мощным кулаком, точно молотом, грохнул Тимофея в лоб, так что тот свалился.
Что было дальше, Аарон не видел, но последствия не заставили себя долго ждать. Назавтра несколько братьев вернулись в монастырь не только с синяками, но и с кровоточащими рапами. Взволнованно рассказывали они, что в самом центре города, возле колонны Марка Аврелия, долго не сможет появиться ни один монах из монастырей, принадлежащих к клюнийской конгрегации. Вокруг небольшого замка, напротив колонны, все время гудят возмущенные толпы, к которым из сводчатого окна замка по несколько раз в день обращается Иоанн Феофилакт, не самый старший, но, бесспорно, самый разумный из всех тускуланских графов, бросая пылкие призывы: «Да здравствует извечная Республика!.. Не допустим, квириты, чтобы варвары севера навязывали нам обычаи, которых не знали наши достославные предки!.. Рим — столица Петра, а стало быть, и столица всего христианского мира — так что не к нам, а от нас должны исходить приказы, как управлять церковью господней, как жить служителям Христовым…» Вечером же многочисленная орава молодцов, вооруженных кольями, копьями и даже мечами, скатилась с тускуланских холмов, чтобы ночью с факелами пройти от замка у колонны через весь город, за стены, к самому монастырю святого Павла.