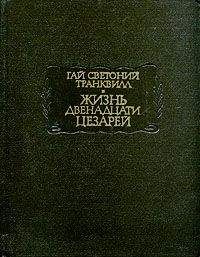На третий день Курбатов познакомился с Эльзой Хооте.
В тот вечер он вышел из портовой пивной и не спеша зашагал вдоль какого-то узкого канала. Хмель, чистый блеск звезд и вольный ветер над огромным, смутно темнеющим заливом заставляли его острее и слаще чувствовать свое одиночество. Дойдя до каменного мостика, дугой перекинутого через канал, он увидел на той стороне, у садовой калитки, молодую статную женщину — она курила трубку и с каждой затяжкой вспыхивавший огонек отбрасывал на ее круглое лицо красноватый отблеск. Курбатова с первого взгляда потрясла меловая белизна ее открытых шеи и плеч, освещенных луной. Он невольно остановился и слегка поклонился ей.
Женщина ответила долгим спокойным взглядом, в котором, однако ж, Курбатову почудилась ласковая усмешка. Он смутился, не зная, как быть дальше — уйти или остаться, — сделал шаг и встал, уже внутренне дрожа.
— Два гульдена, — ровным грудным голосом произнесла она.
Он сразу перешел мостик и приблизился к ней. Она без всякого интереса осмотрела его, пыхнула трубкой и, плавно повернувшись, вошла в калитку. Он последовал за ней.
Пройдя цветник, они оказались у двери небольшого кирпичного двухэтажного дома с деревянным чердаком. Внутри, в полутемной комнате с узорным каменным полом, стоял стол, массивный буфет, слева в стене за решеткой зиял камин. Женщина засветила лампу, поставила на стол бутылку вина, ветчину, хлеб, фрукты. Сама она почти ничего не ела, только мелкими глотками отпивала из стакана и слушала Курбатова, выпуская изо рта и ноздрей длинные струйки сизого дыма. Потом, не выпуская трубки, пересела к нему на колени, обняла за шею, склонилась на плечо… Он начал целовать ее прохладные белые плечи, но она зажала ему губы рукой: «Посидим просто так, хорошо?»
Утром Курбатов попросил разрешения прийти снова и стал ходить к ней каждый вечер. Она все так же встречала его у калитки, вела в дом, кормила, некоторое время сидела рядом, приникнув к нему, затем шла наверх стелить постель… Эльза Хооте была очень немногословна. Курбатов узнал только, что она вдова торговца шерстью, семь лет назад поплатившегося жизнью за дружбу с великим пенсионарием Яном де Виттом [15]. Имущество ее мужа было конфисковано, его друзья, спасаясь от преследований штатгальтера, уехали во Францию. С тех пор она должна была сама заботиться о куске хлеба.
Курбатову, впрочем, нравилась ее неразговорчивость — так было даже легче: лежать рядом, чувствуя женское тепло, и думать о чем-нибудь, что не имело отношения ни к ней, ни к Голландии, порой — ни к нему самому. Эльза набивала свою трубку, курила, полузакрыв глаза, но никогда не засыпала первой.
Здесь, в спальне Эльзы, Курбатов впервые как следует принюхался к табачному дыму: душноват, конечно, но ничего, духовитый. Дома, в Москве, ему не раз предлагали — и немецкие знакомые, и свои, посольские, — из тех, кто был тайно привержен табачному зелью, — покурить, пожевать, попить носом с бумажки, да он все отказывался, памятуя государев указ покойного царя Алексея Михайловича: табачников метать в тюрьму, бить по торгам кнутом нещадно, рвать им ноздри, клеймить лбы стемпелями, а дворы их, и лавки, и животы их, и товары все имать на государя. Теперь, при взгляде на Эльзу, в сладком полузабытье посасывавшую мундштук, прежние страхи забывались и тянуло отведать: что это, в самом деле, за дымная прелесть такая?
Раз он не выдержал, попросил ее набить для него трубку. Она не удивилась, молча умяла в чубук несколько щепотей табаку, раскурила и протянула ему. Он с удовольствием потянул носом душистый дымок, тонкой струйкой бегущий вверх, осторожно затянулся — и зашелся громким, безудержным кашлем.
— Дас ист штаркер табак! [16] — одобрительно кивнула Эльза.
Она подвинулась к нему, взяла у него трубку и, подождав, когда он кончит сотрясаться, снова поднесла ее к его губам. Он с отвращением отпихнул ее руку.
— Не бойся, кашля больше не будет, — сказала она. — Держи трубку во рту и посасывай, как я.
Эльза откинулась на подушку и взяла в рот чубук.
Превозмогая себя, Курбатов последовал ее примеру. Через короткое время он с тревожным наслаждением почувствовал, как его тело стало легче, руки и ноги сделались словно не его, мысли исчезли… Сладкое наваждение!
В тот вечер они больше не разговаривали.
Между тем приближался день отъезда посольства в Испанию. Штатгальтер помог договориться с капитаном английского судна, отплывающего в Сан-Себастьян. В последний раз придя в домик на узком канале, Курбатов был деланно весел, болтлив, потом как-то сник, сделался задумчив… Эльза подарила ему трубку и кожаный кисет, туго набитый табаком.
Уже стоя в дверях, он сказал:
— Я приду к тебе, когда снова буду здесь на обратном пути.
— Приходи.
— Ты не уедешь отсюда?
— Вообще-то я хочу купить гостиницу где-нибудь рядом с Амстердамом — например, в Саардаме. Но вряд ли это случится скоро, я еще не накопила достаточно денег.
— Тогда до встречи?
— До встречи.
VII
Два дня Курбатову было очень тоскливо.
С великой мукой кое-как прошатавшись по палубе до вечера, он ночью тайком вновь поднимался наверх из каюты, находил укромное местечко и доставал подаренную трубку. Курить не хотелось — хотелось просто подержать ее в руках, погладить изгибы, вдохнуть сладковатый запах нагара. Порой все-таки не выдерживал: торопливо, по-воровски, закуривал, вспоминал домик, спальню… Все же был начеку — заслышав голоса или скрип палубных досок, быстро прятал трубку за пазуху, придавив пальцем тлеющий табак.
Ла-Манш несколько рассеял его тоску. Потянулись острова и островки, уютные прибрежные городишки, совсем не скучные в своем однообразии: готическая церковь, старые улицы, тесные, узкие, причудливо-кривые, пересекаемые восходящими и нисходящими лестницами, дома набегают друг на друга; внизу — маленький порт, где теснятся суда, реи шхун угрожают окнам домов на набережной… Сам залив — не то море, не то река, или скорее — морская улица: всюду рыболовные барки, шлюпки, двух— и трехмачтовые корабли…
В первых числах августа показался воздушно-сиреневый берег Испании.
В Сан-Себастьяне пересели на лошадей и мулов и двинулись дальше, отослав в Мадрид гонца с вестью о прибытии государева посольства. По обе стороны древней каменистой дороги громоздились одна на другую ужасные в своей пустынности горы; некоторые из них были совсем лысые, как спина старого осла, другие — покрыты низкорослыми каштанами, дубами, кленами, буками. В мертвой тишине ночей, казавшихся особенно мрачными от обилия звезд, слышался один глухой ровный шум горного потока.
Города тоже были древними и пустынными: тенистая улица вела между каменными остовами домов, часто зиявшими черными пустотами на месте окон; за домами виднелась пыльная зелень одичавших садов; потом появлялась залитая солнцем площадь, длинный водоем под навесом, церковь с голубой статуей Богоматери над порталом, обитаемые-дома, никуда не спешащие люди, а впереди, уже на выезде, постоялый двор с неизменными связками трески, сохнувшей на пыльной доске… В Бургосе Курбатов с любопытством осмотрел готический собор: на его стенах нельзя было найти места в ладонь, где бы ни прошелся резец мастера.
За Бургосом потянулись сухие серые равнины, выжженные солнцем. На улицах бедных селений, у ворот жалких лачуг с соломенными крышами валялись в пыли черные свиньи, круглые и гладкие, как шары…
В эти дни Курбатов записал в тетради: «Испания — страна бедная, вроде нашего Костромского уезда».
В окрестностях Мадрида посольство разместилось на постоялом дворе, довольно приличном на вид. Однако на ужин подали только яичницу, от которой пришлось отказаться — шел Успенский пост. С великим трудом хозяин к ночи раздобыл форель и накормил тех, кто еще не лег спать, чтобы заглушить голод.
Утром, когда хозяин принес Потемкину счет, князь побагровел и велел Курбатову ответить, что не заплатит и половины требуемой суммы. Начались пререкания; хозяин совсем не понимал курбатовскую латынь, пришлось послать за местным приходским священником. В это время в комнату явился посольский иерей отец Богдан с жалобой, что ночью у него украли несколько дорогих окладов с образов, наградной крест и даже срезали серебряные пуговицы с епитрахили. Услыхав о таком бесчестии, Потемкин наотрез отказался платить, пока хозяин не отыщет воров. Тот ушел, клянясь, что взыщет с проклятых московитов все, до последнего песо.
И действительно, когда князь со свитой вышел из комнаты, собираясь спуститься вниз, он обнаружил в дверях гостиницы с десяток человек прислуги, вооруженной мушкетами, вилами и дрекольем. Хозяин, стоявший впереди всех с кочергой в руке и пистолетом за поясом, всем своим видом показывал, что не отступится от своих слов.
Пятеро дворян, выхватив из ножен сабли, сгрудились вокруг Потемкина, двое кинулись в свои комнаты за пистолетами. Князь грозил, что нынче же потребует у короля Карла вздернуть хозяина со всеми его холопьями, как воров и разбойников, но приходской священник уже исчез, а хозяин, не слушая Курбатова, только потрясал в ответ листком, на котором был записан грабительский счет.