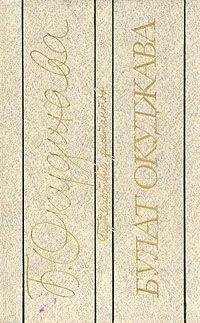По улице, за оградой, действительно прохаживалась смутная фигура в длинном пальто, закутанная в башлык.
Мятлев нервно рассмеялся, вспомнив преследовавшие его тяжелые шаги.
– Что касается Афанасия, – сказал он твердо, – то вы дали маху.
Внешность Приимкова была далека от совершенства. Невысокий, худой, со впалой грудью, с лицом отчаявшегося монаха, с маленькими пронзительными, все отмечающими глазками, одетый в последней моды парижский костюм, отменно новый, но уже непоправимо измятый, Приимков являл собой зрелище незаурядное и грустное. Он любил поговорить, высказываясь и выплескивая накопившийся в душе яд, при этом отчаянно жестикулируя, однако передвигаться приучил себя медленно, скрывая хромоту.
– Ладно, ладно, Афанасий–Расфанасий, – сказал он, морщась, – я имею в виду шпионов вообще. Шпионаж в России – явление не новое, но крайне своеобразное. Европейский шпион – это, если хотите, чиновник известного ведомства. Вот и все. У нас же, кроме шпионов подобного типа (мы ведь тоже Европа, черт подери!), главную массу составляют шпионы по любительству, шпионы–бессребреники, совмещающие основную благородную службу с доносительством и слежкой, готовые лететь с замирающим сердцем на Фонтанку и сладострастно, чтоб не сказать хуже, докладывать самому Дубельту о чьей–то там неблагонамеренности. Шпионство у нас – не служба, а форма существования, внушенная в детстве, и не людьми, а воздухом империи. Конечно, ежели им за это ко всему же дают деньги, они не отказываются, хотя в большинстве своем, закладывая чужие души, делают это безвозмездно, из патриотизма и из патриотизма лезут в чужие дымоходы и висят там вниз головой, угорая, но запоминая каждое слово.
– У нас голландки облицованы мощным старинным изразцом, – засмеялся Мятлев. – Сквозь него не проникают звуки. Послушать вас, и жить нельзя.
Зерно, брошенное случаем, медленно прорастало, и его бледные побеги уже показались из почвы, и Мятлев, как бы играя, притронулся к горячим малиновым изразцам, выпуклым и витиеватым. Он начал со стыдливой улыбкой выстукивать их костяшками пальцев, словно молодой и неопытный врач грудь обнаженной красотки, и ощутил, как что–то отозвалось в печной глубине, как будто вздрогнуло, словно и впрямь было молодым живым телом.
– Ну, вы прямо волшебник, – сказал он хромоножке, – там, кажется, действительно кто–то есть…
– Что? Кто? – встрепенулся Приимков. – Да вы что?… А–а–а, так велите затопить все печи да ветоши туда, ветоши побольше, шишек хорошо бы, шишек бы! – Он проковылял к окну, отогнул штору. – Ну вот, и этот на месте. Вот черт!
– Послушайте! – вдруг крикнул Мятлев, кивая на печь. – Да вы только послушайте… За плотной чешуей малиновых изразцов, где–то в самой глубине дымохода, что–то отчетливо зашуршало, заплескалось, треснуло.
Приимков прислушался, скривился по своему обыкновению и уставился на Мятлева пронзительными глазками.
– Ну, знаете… Да вы сошли с ума, чтоб не сказать хуже! Мятлев хотел рассмеяться, но не смог. Он распахнул тяжелую дубовую дверь и выглянул в коридор. Из печной топки вылетали языки огня, освещая мрак. Афанасий, весь в красном, точь–в–точь дьявол, с красною же книгой в руках, поблескивал красными же зрачками и скалился в улыбке. Князь велел ему: немедленно, сейчас же, не откладывая, придумать что–нибудь, какую–нибудь дурацкую штуку, а они с хромоножкой тем временем понаблюдают сверху; только сию же минуту, мгновенно, покуда этот, внизу, еще не исчез и не оставил их в мучительной неизвестности.
Афанасий тут же оценил ситуацию, изысканно поклонился и, не переставая скалиться, исчез в красном дыму. Оба князя, задув в комнате все свечи, припали к окнам. Ранние зимние сумерки не успели еще загустеть, и все было хорошо видно. Неизвестный в башлыке продолжал медленно прогуливаться вдоль чугунной ограды, не обращая внимания на дом, словно погрузившись в какие–то несладкие раздумья. Из этого состояния вывел его стук калитки. Он вздрогнул и обомлел – перед ним стоял господин странного вида. Он был в легкой черной крылатке, в стоптанных валенках, на голове возвышался старинный поношенный цилиндр с высокой тульей, руки были в белых летних перчатках, тяжелая трость с набалдашником усугубляла его неправдоподобие.
Он снял цилиндр, приветствуя незнакомца в башлыке. Тот поклонился и проследовал дальше. Так они разошлись, дошли каждый до своего конца ограды, повернулись и начали сходиться вновь. У калитки они поравнялись, и господин снова приподнял цилиндр. Так повторилось несколько раз, покуда Афанасий (а это был он) не сказал человеку в башлыке:
– Как странно, если позволите, который уж год прогуливаюсь здесь, для моциону, а вас, сударь, вижу, если позволите, впервые.
Человек в башлыке нехотя остановился, пошмыгал красным носом, смахнул с него капельку, покрутил головой, но ничего не ответил.
– Уж не новый ли сосед? – продолжал меж тем Афанасий как ни в чем не бывало. – Вот мой дом, если позволите. Рад буду видеть вас у себя… Мне врач прописал моцион от сгущения крови. Когда на вечерней заре совершаешь его, кровь разжижается. И для печени, если позволите, очень полезно… – Он приподнял цилиндр. – Маркиз Труайя… С кем имею честь?
– Здесь князь Мятлев проживают, – мрачно сказал человек в башлыке.
– А я что говорю? – с достоинством отпарировал Афанасий. – Я что говорю? Поверите ли, сударь, три года назад печень моя была на вершок шире, чем ей полагается… Все ухищрения врачей не дали никаких результатов. Дворцовый врач, немец, если позволите, господин статский советник Кунце приказал мне совершать моцион на вечерней заре… Сразу полегчало… Да, с кем же имею честь?
Человек в башлыке был обут в потрескавшиеся холодные сапоги. Он, видимо, отчаянно замерз, ибо беспрерывно пристукивал ногами, приплясывал, топтался, взглядывая на Афанасия то со злобным отчаянием, то с испугом, то с мольбой.
– А после моциону, если позволите, – продолжал Афанасий, – я тотчас бегу в дом, к печке, принимаю бодрящих напитков, грею спину и душу. С кем же имею честь?
– Каких напитков? – спросил окоченевший незнакомец и стряхнул новую капельку с носа…
Афанасий не торопился. Он взял несчастного под руку, подтолкнул и медленно повел вдоль ограды.
– Я, если позволите, водку эту не люблю, – сказал он доверительно. – От водки мигрени по утрам, опять же вздутие и прочая чертовщина. После моциону, когда вас морозцем пробрало, вам надлежит принять грог…
– Не слыхал, – сказал незнакомец, сотрясаясь от холода.
– Сударь, – остановился Афанасий, – не лучше ли нам пройти в дом, где я напою вас грогом? Клянусь, не пожалеете. (Незнакомец поспешно отдернул локоть.) Впрочем, ежели вам нынче недосуг, мы совершим это завтра. Ведь вы, если позволите, теперь каждодневно будете здесь прогуливаться, и я тоже… Давайте уж запросто, по–соседски. (Человек в башлыке отступил на несколько шагов.) А вы мне нравитесь.
– До свиданьица, – прохрипел незнакомец, – премного благодарны, – и двинулся прочь, почти побежал.
Оба князя с нетерпением ждали Афанасия. Они потребовали подробного рассказа о свидании и горячо одобрили поведение Афанасия, и посмеялись над незадачливым шпионом.
– Знай наших, – сказал хромоножка восхищенно. – Ай да Фонарясий!
– Афанасий, если позволите, сударь, – поправил слуга, церемонно откланялся и вышел.
– Вот видите, князь Сергей, – проговорил хромоножка вдохновенно, – вот видите, какая живая иллюстрация к моему рассказу. А вы растяпа, чтоб не сказать хуже.
…Кстати, после той идиотской дуэли мы расположились с Мятлевым в его комнате в покойных креслах, обитых голландским ситцем, пружины в которых уютно и отдаленно позванивали, в комнате, где пять венецианских окон горели под осенним солнцем и на золотом фигурном паркете пылало пять бесшумных костров, в которые были погружены наши ноги.
Мы сидели, подобно кочевникам, изогнувшись, расслабленно раскинув руки, полуприкрыв глаза, и пили ледяную водку, и крепенькие молодые огурчики свежего посола с хрустом раскалывались на наших зубах. Мы молчали, заново, уже в который раз переживая собственную жизнь, выуживая со дна сознания те ее блестящие осколки, которые уже начинали тускнеть, подернувшись ряской забвения. Изредка мы взглядывали друг на друга, и тогда передо мной вспыхивала внезапная обворожительная и чуть–чуть виноватая его улыбка, словно мы одновременно думали об одном и том же, и он стыдился своих воспоминаний.
Над нами простиралась по всей стене чужая, далекая страна, и давно минувшее время завершало свой горестный оборот, и горсточка обреченных скуластых туземцев все так же не помышляла о своем скором и неминуемом конце. И там, в этой обреченной толпе, по–прежнему выделялся человек с европейским лицом, высоколобый, со взглядом, исполненным благородства, но в этом взгляде уже таилось предчувствие гибели и бессилие перед неумолимостью природы. Конкистадоры со злодейскими физиономиями подкрадывались к ним с левого края полотна. Им уже мерещились запоздалые крики раненых и стоны умирающих, и смуглые остывшие тела. Они уже в мечтах распределили между собой добро туземцев, которое должно было попасть к ним в лапы: тяжелые золотые слитки и нечистоплотные индейские жены, которых они мысленно уже обнимали, не брезгуя, ибо сами имели еще смутное представление о чистоплотности. Грязные, вшивые сорочки с кружевными воротниками и башмаки с деревянными пряжками вызывали в них чувство превосходства и придавали им храбрости. Их бородатые и немытые лица казались им верхом совершенства. Холопы у себя на родине, привыкшие зависеть и повиноваться, не раз битые кнутом и терпевшие насмешки аристократов, они сладострастно мечтали о власти и с упоением торопились заполучить ее хотя бы здесь, на этом чужом беспомощном берегу. Лишь миг оставался до того момента, когда должна была удовлетвориться их беспощадная жажда насилия и власти, а те, по–детски доверчивые, гостеприимно протягивали к ним свои смуглые руки, не подозревая, что уже обречены и что райские врата – это единственное, на что они могут рассчитывать. Господа, наша высокородность и изощренный состав крови, утонченное воспитание и изысканность манер, наша приверженность к философии и благородный блеск глаз, даже и это все не ограждает нас от ненасытного микроба холопства, проникающего в наши души самыми невероятными путями. Где же защитные средства от него и что сулит нам избавление? Неужели род человеческий, совершенствуясь, не в силах противостоять этому ничтожному существу, разъедающему племя людей? Поглядите вокруг и на самих себя. В самонадеянном своем раже мы проглядели, что и нас уже коснулась эта зараза и мы в наш–то золотой век, когда корабли движутся с помощью пара и уже локомотивы дымят и мчат нас вместо медленных, капризных и хрупких экипажей, когда мысль человечества устремляется в небеса, надеясь снабдить нас прозрачными крыльями, в наш–то золотой век, когда литература уже достигла обнадеживающих высот в строках Александра Пушкина и ныне здравствующего господина Тургенева, выше которых уже ничто невозможно, – неужели в наш–то золотой век мы, подобно темным предкам, с тайной ненавистью к собрату своему тоже стремимся самоутвердиться за его счет; и зависть, и злоба, и страсть подавлять – неужели это все, чем мы владеем? Так где же совершенство? В чем оно? В изяществе нарядов? В умении приподнять цилиндр? Пусты наши души и холодны глаза перед лицом чужой жизни. С самого раннего детства мы точим оружие друг против друга, и каждый тайно надеется, что именно ему повезет и судьба именно его великодушно и торжественно возведет надо всеми. И этот ничтожный микроб, разъедая наши внутренности, принуждает нас лицемерить и лгать, изворачиваться и подобострастничать, чтобы приблизиться и наконец вонзить нож в мягкую спину врага, а после, поплясав на трупе, провозгласить себя единственным… И для этого, только для этого мы не ленимся ковать стальное смертоносное оружие, и мы с восторгом изучаем искусство владения им и поощряем сами себя в этом, с восхитительной наглостью утверждая, что это якобы в целях самозащиты. Когда же нам удается использовать его, мы используем его с легкостью и торжествуем, видя себя еще на шаг продвинувшимися к заветной цели. Но этого нам кажется мало, и рядом со стальным оружием мы носим при себе набор прекрасных и испытанных средств: ложь, клевету, угодничество, которые пострашнее кинжала. И так всегда. Что же цивилизация? Почему же она не облагораживает и не очищает, и не излечивает нас?… Во все века и времена рождаются одинокие гении, которых не заботит жажда власти и насилия над другими, но они сами становятся жертвами собственных собратьев, которые клянутся впоследствии их святостью, собираясь на очередное темное дело. История идет вперед, цивилизация хорошеет и самодовольно показывает себя со стороны фасада, за которым по темным углам продолжают убивать беспомощных гениев, выжимая их и беря у них для собственных удобств плоды их мучительной, вдохновенной и короткой жизни.