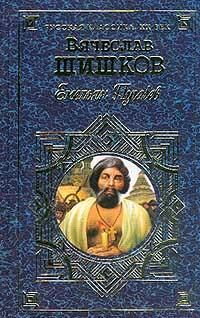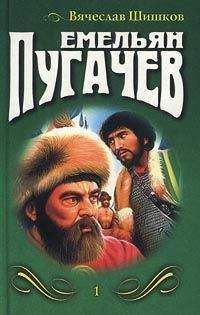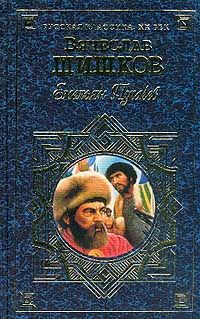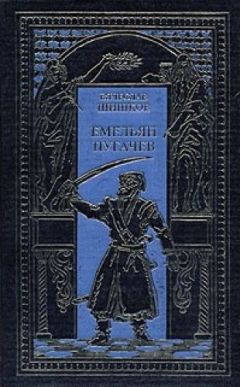– Что ты, Киселев! Да что ты, старый? – попятился изумленный Шванвич. – Встань!
– Не встану, ваше благородие! Пока слова твоего не услышу, не встану!
– Встань! – И Шванвич, смущенный, растроганный, принялся подымать гренадера. – Я всеми силами... что могу... Я ведь и сам... того... к простому люду... Я... понимаю, понимаю, старик!
Но Киселев, поднявшись и ничего не слушая, а только бормоча: «Ваше благородие, спасибо, ваше благородие!..» – схватился за голову и, шатаясь, как пьяный, вылез в одной рубахе на мороз. Он присел на крылечную ступеньку, сгорбился, взматывал головой, сморкался в рубаху и не переставая выборматывал: «Спасибо! Эх, вот спасибо-то!..»
За ним выскочил Шванвич:
– Киселев! Киселев! Да ты что?.. – и потащил старика в избу.
Поздно вечером, когда Пугачев уже собирался ложиться спать и, сидя в маленькой горенке, доигрывал с Шигаевым последнюю партию в шашки в поддавки, дежурный Давилин доложил о приходе Хлопуши. Пугачев велел впустить его.
Огромный Хлопуша сбросил с широких плеч лисью, с бобровым воротником, богатую шубу и, опасаясь повесить ее в прихожей («Чего доброго, стянут!»), вошел к Пугачеву, ужав шубу под мышку.
– Вот, батюшка! – сказал он, тряхнув лохматой головой.– Перво-наперво кланяюсь тебе вот этим гостинцем, – и он разбросил в ногах Пугачева лисью шубу мехом вверх.
– Благодарствую! – промолвил Пугачев и, подмигнув в сторону шубы, ухмыльнулся. – С кого снял? Ась?
– Ни с кого, батюшка, – усмехнулся в свой черед Хлопуша. – А то управитель Авзянского завода скоропостижно преставился, так он отказал тебе на поношенье. Носи на доброе здоровье, батюшка!
– Садись, Хлопуша-Соколов!
– Постоим.
– Давилин! Подай сюда бархатный кресел... Садись, господин полковник!
Хлопуша покорно хлопнулся в придвинутое кресло.
– Жалую тебя, Соколов, полковником и ставлю командиром над заводскими крестьянами, коих ты привел ко мне: над пятьюстами!
Хлопуша вытаращил на батюшку глаза, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами и, подобно большой жабе, опрокинулся с кресла, как в омут, Пугачеву в ноги:
– Батюшка, помилуй! Какой я, к свиньям, полковник, я и грамоте-то ни аза в глаза!.. Ослобони, отец!
– Грамота ни при чем тут, – сказал, раздражаясь, Пугачев, – лишь бы человек в дело свое веру имел да честь бы блюл. Встань и не супротивничай! Объявляю тебе благодарность царскую за людей, за порох, за пушки да за пять тысяч рублев казны, что прислал мне. Пушки опробованы – добрые, бьют метко... А то что у тебя за узелок?
– А это, батюшка, второй гостинчик тебе – два «пряничка» да два «пирожка». – И Хлопуша, размотав холстину, вытащил медные увесистые плитки и подал их Пугачеву. – Орленые «прянички»-то, батюшка!
Пугачев с интересом повертел их в руках и сказал:
– Об эти пряники зубы поломаешь... Что за чертовщина?
– А это катерининские рублики, батюшка.
Пугачев прищурился и засипел язвительным смехом:
– Вот олухи царя небесного!.. Ха!.. Максим Григорьич! Видал? Да из полсотни таких рубликов добрую пушку вылить можно!
Хлопуша скреб за ухом и ухмылялся. Шигаев, встряхивая на ладони тяжелый прямоугольный рублевик, сказал:
– Кабы мастера-знатецы были, на пятаки бы нам перелить их.
– Не на пятаки, а на кресты, – поправил его Пугачев. – Серебреца подбросить, да на большие кресты и перековать, чтоб те кресты в награждение давать людям за храбрость. Треба, Максим Григорьич, пошукать таких мастеров-та... Чтобы кресты, медали... Давилин! Подай-кось из опочивальни рубаху мою железную.
Давилин притащил легкую чешуйчатую кольчугу-безрукавку; сделана она из некрупных стальных планок, скрепленных проволочными кольцами.
– Вот башкирские знатецы ковали, – взял кольчугу в руки Пугачев и принялся встряхивать. Кольчуга заструилась, зазвенела, как ручеек в горах. – Башкирец Юлай с сыном Салаваткой в дар прислали мне... Хошь и легка штучка, а ее ни сабля, ни пуля не берет. Ну-тка, новый полковник, надень, я по тебе попробую из мушкетона пальнуть. – И Пугачев швырнул кольчугу на колени сидевшему Хлопуше. – Давилин, подай-кось ружье!
Хлопуша вскочил и замахал руками:
– Да что ты, батюшка, ваше величество?.. Не убивай, дай уж мало-мало в полковниках походить.
Пугачев захохотал, погрозил Хлопуше пальцем и крикнул:
– Дурак, да ведь пуля-то отскочит!
– А кто ее знает, батюшка, ей как взглянется... Пущай Максим Григорьич надевает, он человек стреляный, а у меня жена, ребенчишки.
– Да тебе говорят – отскочит! – смеялся Пугачев, потешаясь над перепуганным Хлопушей. По случаю одержанных побед Пугачев был в прекрасном состоянии духа.
Меж тем Давилин распялил кольчугу на полузакрытой двери и подал Пугачеву изготовленное ружье.
– Поостерегись, атаманы-молодцы, а то пуля в сторону прянет, как бы не зачепило кого, – сказал Пугачев, приложился и пульнул.
И как только грохнул выстрел, вбежала в горницу растрепанная, неприбранная, с подоткнутым подолом и с мочалкой в руке Ненила, а за нею горнист Ермилка с топором.
– Вы что тут воюете? – неистово завизжала Ненила.
Все захохотали. А в прихожую уже вломилась толпа яицких казаков – личная охрана Пугачева – с обнаженными саблями, с пиками. У всех разъяренные лица.
– Эй, кто палит? Где государь?.. – гулким басом орал сотник Белоносов.
– Заспокойтесь, детушки! Идите с Богом! – сказал вышедший к ним Пугачев. – Это я новое ружьишко пробовал.
Внимательно оглядывая государя – здоров ли, цел ли, казаки поклонились ему и, тяжело дыша, ушли.
Вместе с Ненилой прибежала из кухни и пестренькая кошка, любимица Пугачева.
– Мурка, Мурка, – погладил ее Емельян Иваныч и взял на руки. Шигаев, рассматривая кольчугу, говорил Пугачеву:
– Насквозь, ваше величество. И кольчуга прошиблена, и дверь насквозь!
Хлопуша, поправив тряпицу на носу и набожно осенив себя крестом, сказал:
– Вот, твое величество!.. Устукал бы ты меня за всяко просто!
– Дурак ты, полковник, императорских шуток не разумеешь, – ответил Пугачев. – Неужто стал бы я стрелять в тебя? Да ты медведь, что ли? Давилин, а ну-ка выброси эту чертову железную кофту на помойку!
– Эта кольчуга против сабли с пикой хороша. Да и пуля, ежели на излете, отскочит, – заметил Шигаев.
Затем были втащены с улицы два сундука и корзины с привезенным Хлопушей добром: три больших зеркала, столовые английские часы и клавесин. Пугачев с удовольствием разглядывал содержимое сундуков, прищелкивал языком, оглаживал руками богатые серебряные кубки, вазы, кувшины, ендовы, еще недавно принадлежавшие Демидову.
Серебряный орленый кубок с вензелем Петра I Пугачев тут же подарил Хлопуше; высокие, под потолок, часы велел отнести в хату атамана Овчинникова – вернется из похода, рад будет; большое зеркало – Ивану Творогову – пускай красавица Стеша любуется в него; другое зеркало, поменьше, – полковнику Падурову – да пусть скажут там, чтоб в это зеркало смотрелся не сам полковник, а его татарочка; а вот эту вот мраморную голубь-красотку с отбитым носом – есаулу Шванвичу, да ему же и вот этот бисерный колпак с кисточкой, и меховые рукавицы. Словом, Емельян Иваныч всех оделил дарами. Не обидел и свою особу, отложив кой-какие приятные вещишки.
– А тут чего? – коснулся он ногой большой, как стол, плетеной корзины.
– А здеся-ка сряда всякая, барахлишко, тряпье бабское, – ответил Хлопуша, развязывая веревки на корзине и отпирая замок. – Есть и прянички.
– Медные? – подмигнул Пугачев.
– Пошто медные!.. Самые съедобные! И вареньице тут есть, банок с пять больших, ежели казаки не сожрали в пути.
Хлопуша, присев возле скрипучей корзины, открыл ее и вдруг, всех поразив, внезапно завизжал дурным, оглушительным голосом и повалился на бок.
– Мышь, мышь!..
Кошка Мурка мигом спрыгнула с плеча Пугачева и, урча, ухватила мышонка. Горенка грохнула дружным хохотом. Даже на лице Шигаева, строгом, бледном и постном, как лицо монаха в схиме, выдавилась улыбка. А Пугачев схватился за бока и от неуемного хохота закашлялся.
– Уф, дьявол! Пуще смерти мышат боюсь, пятнай их душу! – сразу облившись потом, задышливо пыхтел Хлопуша. – В тюрьме, в камере, я одноважды мыша увидел, едва решетку не оторвал с окна...
– Бывает, бывает... – откликнулся Пугачев. – У меня в свите генерал-адъютант один был, старик, так тот черных тараканов боялся дюже. А на войне первеющий храбрец!
Он запер сундуки и корзину, ключи сунул в карман, велел скликать казака Фофана, хранителя имущества, и, когда тот явился, приказал ему:
– Перетащи-ка с Ермилкой все это к себе вниз. Завтра, в присутствии моей особы, составишь список всему добру.
Затем он указал на искусно сделанную из ясеневого с резьбой дерева неведомого назначения вещь.
– А это что за оказия такая? Стол не стол, кресел не кресел?
– Музыка, – буркнул в бороду Хлопуша и поднял крышку. – Вот ежели по энтим клапанам вдарить, музыку можно вырабатывать.