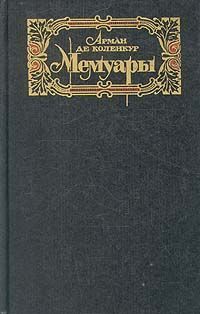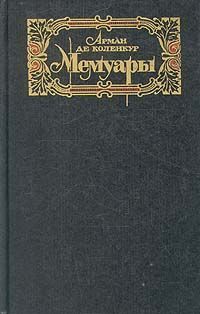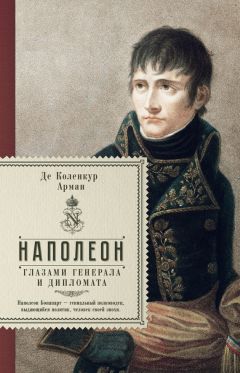— По существу, — продолжал император, — Испания выигрывала от этого соглашения. Старик-король, восхищенный идеей завоевать Португалию и сделаться императором272, решил, что этот титул делает его великим человеком, как будто новый титул мог очаровать его подданных больше, чем старый, и как будто назваться императором — значит приобрести гений и энергию, необходимые для того, чтобы возродить и отстоять свою прекрасную империю. В глубине души мы все думали, что сделали полезное дело, так как испанская напыщенность должна была почувствовать удовлетворение, но мы обманулись. Пока в Фонтенбло велись переговоры, Фердинанд, которому не терпелось взойти на престол, устраивал заговор против своего отца. Он искал поддержки и думал, что найдет ее, если обратится ко мне с просьбой отдать ему в супруги одну из родственниц Жозефины273. Чтобы объяснить эту просьбу, о которой не знал его отец, он заявлял, будто тот хотел сделать его зятем фаворита274. Таинственность этого шага и всей обстановки возмутила меня. Я не ответил ему и дал даже нагоняй моему послу, которого я на момент заподозрил в том, что он приложил руку к этому делу. Далекий от всякой мысли о каких-либо переменах в Испании, я сделал все возможное, чтобы внушить здравые идеи лиссабонскому двору. Талейран, который считал, что результатом этих мер будет мир с Англией, направил в Лиссабон Лиму (португальского посланника в Париже); но лиссабонский двор потратил несколько дней на всяческие увертки и не хотел ничего понять. Надо было, таким образом, подписать договор в Фонтенбло, хотя бы для того, чтобы до оккупации Португалии избежать всякого повода к разногласиям с Испанией. Тогда мне было очень важно сохранить хорошие отношения с Испанией. Вся моя политическая система зависела от этого соглашения. Талейран, который хорошо знал мои дела и вел переговоры с Искиердо, может вам это подтвердить. Я был далек or всяких предположений о тех скандальных событиях, которые затем запятнали Испанию и заставили нас взглянуть на дело по-иному. Я отправился в Италию, послав вас в Петербург, а тем временем покушение сына против отца, раздоры между ними и дворцовые интриги уже во многом изменили положение. В конце концов честолюбие Фердинанда довело дело до крайности. Все узы были порваны, и все добрые нравы были оскорблены. При таком положении надо было принять определенное решение, так как Испания, которая в лице короля-отца и его фаворита была на моей стороне, теперь силою вещей и в результате интриги, лишившей Карла IV тропа в пользу его сына, готова была повернуться против меня, если только я не сделаюсь соучастником Фердинанда. Но такая роль противоречила моим принципам и была недостойна меня. Я не мог в то же время обманываться насчет последствий этого переворота, и я не замедлил, убедиться, что двор, раздираемый отвратительными интригами, пожертвует подлинными интересами страны и своими отношениями с нами, если я, считаясь только с интересами момента, стану на сторону Карла IV. Мне всегда было противно проводить мелочную политику. Быть может, с моей стороны правильной политикой было бы помогать Фердинанду, который в этот момент представлял, по-видимому, испанскую нацию, но это значило бы предать короля, так как всем было известно, что его сыном и герцогом Инфантадо275 руководила жажда властвовать на троне. Ненависть к фавориту служила предлогом, оправдывающим их честолюбие. Интересы Испании не играли никакой роли в этом деле, которое являлось не более чем дворцовой интригой. Вмешиваться в эту интригу значило бы для меня сделаться соучастником подлой измены сына своему отцу. Я подобрал корону Франции, которая валялась в луже. Я поднял ее па вершину славы, и после этого я не мог содействовать осквернению скипетра Испании и священного авторитета короля и отца. Положение дел было такое, что если бы я высказался в пользу законного авторитета отца против узурпаторских действий сына, то мое заявление шло бы наперекор воле испанской нации и навлекло бы на Францию ненависть испанцев. Такое решение, противное моим интересам, не могло к тому же дать иного результата, кроме продолжения беспорядков, так как правительство Карла IV потеряло всякое уважение. Я не мог взять на себя роль опоры для Годоя против этой гордой нации. Решившись спасти и возродить ее, если бы я оказался вынужден вмешаться в ее дела, я решил пока что ограничиться ожиданием. Я удовольствовался ролью наблюдателя. Хотя, по существу, я не должен был оказывать политическое покровительство тому двору, который угрожал мне, когда думал, что мне приходится туго, однако я объяснил Карлу IV его положение. Но интриги принца Астурийского и фаворита, интересы которых были так резко противоположны, являлись препятствием ко всякому выходу из положения. Я не замедлил прийти к убеждению, что и они и вся нация будут жертвой создавшегося положения. Фердинанд, который обращался ко мне с просьбой женить его, теперь умолял меня оказать ему покровительство; король просил меня оказать защиту ему; что касается фаворита, то он заранее подписывался под всем, лишь бы спасти свой авторитет и сохранить свое влияние. Бесчестный министр и негодный гражданин — он думал только о себе. Я не хотел пачкаться, вмешиваясь в эти интриги, и продолжал сохранять большую сдержанность, не желая ратифицировать договор, заключенный Дюроком в Фонтенбло, пока положение не выяснится. Тем временем армия Жюно оккупировала Португалию, а лиссабонский двор покинул ее и отправился в Бразилию; это принуждало меня пойти на новые комбинации. События, разыгравшиеся при испанском дворе, более чем когда-либо делали для меня противным вмешательство в эти скандальные распри. Я думал, что лучше всего предоставить им самим перебирать свое грязное белье и отдать им Португалию, удалив их таким образом за Эбро; это гарантировало бы мне, что правительство поддержит меры, принятые против Англии, и отдало бы в наши руки баскские провинции. По существу, Испания выигрывала от такой перемены, которая вполне соответствовала ее интересам. Хороший оборонительный и наступательный договор в связи с тем положением, которое он создавал для нас и для них, превращал Испанию в настоящего союзника, но глупость, страх и раздоры между отцом и сыном привели к тому, что ничего не удалось. Быть может также я слишком ясно показал Искиердо, когда он уезжал в Мадрид, чтобы наладить дело, мое нежелание вмешиваться в их распри и мое презрение к Годою и всем их интригам. Сомневаясь, чтобы я пожелал поддержать его, старик-король испугался и был уже готов ехать в Америку; но у них нс хватило мужества принять энергичное решение. Они предпочли остаться, чтобы тягаться друг с другом и вложить кинжалы в руки своих подданных. Я был совершенно непричастен к этим событиям, которые противоречили моим интересам. Я послал в Испанию больше войск. чем собирался, так как во всяком случае не хотел допустить, чтобы события обернулись против нас, а страх перед фаворитом и английские интриги, которые уже тогда сплетались с интригами Фердинанда, могли к этому привести. Мюрат, который командовал армией, делал только глупости и ввел меня в заблуждение.
Далее император сказал, что «испанские дела объясняются только стечением обстоятельств, которых нельзя было предвидеть». Эти события были ему очень неприятны и принудили его поступать вопреки своим намерениям. Никак нельзя было заранее учесть ту необычайную глупость и слабость, которую проявил Карл IV, или преступное тщеславие и двуличие Фердинанда, злобного и в то же время жалкого.
Император добавил, что Фердинанд приезжал в Байонну по совету толедского архидиакона Эскойкица, который думал таким путем доставить Фердинанду сразу и жену и королевство; старый король также приехал в Байонну по своей доброй воле. Император несколько раз говорил мне, что он откровенно беседовал тогда с приехавшими в Байонну испанцами еще до прибытия Фердинанда и не скрывал от них своего мнения о нем; таким образом, от лиц, приехавших раньше Фердинанда, всецело зависело предупредить его, и лишь от него самого зависело повернуть назад.
По словам императора, он даже после приезда Фердинанда еще долго оставался в нерешительности; потом он увидел, что дела приняли плохой оборот и теперь каждый будет объяснять события на свой лад, чтобы оправдать себя, а его будут упрекать в этом деле, как упрекают во всем, что кончается неудачей, хотя он руководствовался исключительно теми соображениями, которые по зрелом размышлении казались ему соответствующими интересам как испанской нации, так и Франции. Он снова повторил, что нельзя представить себе, как слепы и глупы были советники, пользовавшиеся доверием короля и его сына, и до какой степени Мюрат увлекался князем Мира, за которого он всячески ходатайствовал. Нельзя представить себе также, до каких пределов дошла ненависть королевы-матери к сыну и ненависть сына к матери и отцу. Родители считали его способным на все, даже на попытку отравить их, как сказала как-то императору королева. Больше всего она и король боялись попасть в его руки; из-за этого они покинули Испанию, боясь его возвращения туда, и из-за этого они все время отказывались сами вернуться в Испанию.