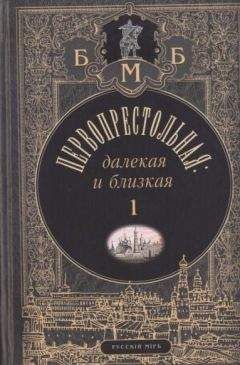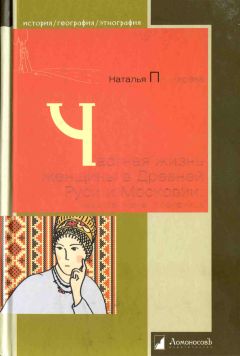И точно ребёнка, легонько подталкивая в спину, уводила его в комнаты няня.
— Ишь, без шапки убёг… Почивать ступай, не беспокой ты себя.
Зазвенела стеклянная дверь. Дождь смутным шумом ворвался в сенцы, брызнул прохладой…
Будошник, тот самый, что спрятался от грозы, сдвинув на затылок треуголку, высунул голову, подставив воде и ветру морщинистое лицо.
Ночь посерела, стала водянистой, мутной. Кругом шепталось, шумело. Капли шлёпали о мостовую, как лёгкие, мокрые шажки бесчисленных прохожих…
А наутро умытая Москва играла, горела на солнце, в тумане тёплых рос, громадной горкой влажных самоцветов, вспыхивая рубинами, изумрудами…
Золотыми полыми шарами плавал звон к ранней[170]. Над самым Кремлём, в нежном, чуть зеленоватом небе, над блистающими куполами, кудрявыми белыми птахами стоят крошечные утренние облака.
У гауптвахты, мимо полосатых столбов, гремя барабанами, прошагали солдаты. Все высоко подымают ногу, как цапли, у всех гамаши[171] до колен. Сияют белые ремни на синих кафтанах, лица красные, как из бани, букли белые, медные каски широко плещут солнцем. Пронесли медный блеск, барабанный гул…
Чиркая мокрыми колёсами, кренясь в грязи, проплыла у Иверской карета. Гайдук[172] верхом на пристяжной, треуголка поперёк лба, размахивает бичом, а долгие ноги, как жерди, волочатся с коня, и жижей, лепёхами обрызганы чулки…
В зеркальных стёклах кареты дрожь солнца, отражение луж, вывесок, бородатых мужиков, картузов, красных платков, гречевиков.
Над сияющими лужами дымит розоватыми столбами пар.
От Иверской карета доплыла на Немецкую улицу. Барин в коричневом фраке, полный и круглый, проворно выпрыгнул на мокрые мостки.
Зальца залита солнцем. Дрожит свет на золотых рамах, косыми дорогами сечёт воздух, горит на красных спинках диванов.
Девка Гаша визгнула, всплеснула руками, дико шарахнулась от круглого барина:
— Василий Львович[173] приехали!
Тот махнул на неё треуголкой.
— Шш-шш… Что с девой сталось?
А ему кланяется няня в белой пелеринке, светлая, чинная.
— Радость у нас. Бог мальчика принёс.
— Вот такой махонький младенчик, — визжит Гаша, попрыгивает, косица трясётся, показывает на пальцах младенца не больше вершка.
Вышел в зало Сергей Львович, бледный, лицо помятое, светлый кок на лбу спутан.
— Здравствуй, Василий.
— Ну, поздравляю, брат… Сказывал тебе, всё будет благополучно.
— Ах, я намучился. Ночь без сна.
— И я не спал. Сочинял, брат… К Наде дозволено?
— Прошу.
Братья идут мимо окон, под руку.
— Славный день, весёлый день, — говорит коричневый барин. У него подмигивают чуть выпуклые глаза. — По ночи сочинял, а утром «Ведомости» пришли… Старик-то наш, Суворов[174]… Италию освободил от мерзостного якобицкого колпака… Смотри, милый друг, вчерашние «Ведомости» пишут: российскими войсками Милан взят… Да где они у меня?.. — Порылся в заднем кармане, коричневый фрак наморщился на спине. — Фельдмаршал сам пишет в реляции своей: при вступлении моём в столицу Пьемонта[175] я с радостью увидел общий восторг жителей, освободившихся от бремени тяготевшего над ними притеснения. Ныне спокойствие, согласие и порядок в целом Пьемонте…
— Да, да, слава Богу, — улыбнулся Сергей Львович. — А какое имя мальчишке моему дать?
— Я про Италию, ты про святцы. Назови его Александром во славу побед Российских[176]…
В спальне, в полусвете опущенных штор, сквозит солнце и зелёный туман берез. В шёлковом белом чепце лежит на высоких перинах барыня Надежда Осиповна. Чуть залегли щеки, горят румянцем. Без сил пали по одеялу желтоватые руки.
— Устала, мой ангел?.. Брат поздравить пришёл.
Надежда Осиповна повела бровью, пожевала горячими губами:
— Благодарю… Мне бы его посмотреть, мальчика… Мальчика принесите.
На жёлтой подушке, в кружевах, несла его в барскую спальню нянюшка, а за нянюшкой шли Гаша, Дарья, кучер Антроп в плисовом камзоле, дворецкий Кир, старец белоголовый, ветхий и строгий, в гродетуровом кафтане[177] старинного покроя, казачок Петька, повар Андрон, тучный и всегда грустный, да ещё девка Фенька, кволая[178] Нюша, да ещё старушки, Бог весть их имена, что с позадворья, — весь дом…
Шли они по залу, по самой солнечной дорожке, чинные и суровые, и все жмурились от солнца. Петька подсмаркивал носом, покуда Кир не дал ему щелчка. Петька от внезапности открыл рот, да так с открытым ртом и остался…
Нянюшка вошла в спальню, а все другие, точно их качнуло волной, кинули руки до полу в низком поклоне и загудели недружно:
— Здравствуйте, матушка-барыня…
— Подите, подите, — едва помахала на них рукой Надежда Осиповна. — Мальчик где?
Нянюшка, поджав запалые губы, поднесла к постели жёлтую подушку. Там шевелилось, выказывало ручки и ножки что-то тёмное, сморщенное.
Надежду Осиповну под локотки приподняли с перин, и увидела она на жёлтом шёлке маленькое тёмное тельце, тёмную крошечную головку со старческой гримаской, нос приплюснут, волос курчавый и тусклый, с рыжинкой, как войлок.
— Боже мой, арапчонок! — вскрикнула Надежда Осиповна. — Унесите его, фу, какой дурной арапчонок.
И отвернулась к стене, закусила было губу, но заплакала обиженно.
— Арапчонка родила — на всю Москву стыд… Арапчонок…
Сергей Львович смеялся, Василий Львович утешал:
— Хотя бы и арапчонок. В деда пошёл, в Аннибала[179].
А в детском покое, где теснится у окон нежная зелень берёз, за тафтяным пологом, сквозящим солнцем, что-то поскрипывает, шевелится. И нянюшка ворчит:
— Арапчонок… Кровинку свою таким словом обозвать… Не арапчонок он, а дворянский сын Пушкин.
И чуть скрипнет, чуть пошевелится за пологом, толкнёт нянюшка зыбку[180] тощей рукой и уже поёт тоненько и привычно, как будто пела «дворянскому сыну Пушкину» всегда:
Жил-был кот воркотун,
Жил без лиха коток…
Когда Наполеон возвращался после кавалерийского смотра в Кремле, копыта чавкали в лужах, а московские пустыри дымились оттепелью.
Таял нечаянный и ранний московский снег.
У Благовещенского собора стояла толпа солдат, все смотрели вверх, на золочёный купол. Зеленоватое вечернее небо в тусклом дыме оттепели огромно светилось над площадью.
Инженерный офицер доложил императору, что с собора снимают крест, который, по слухам, из литого золота, что вокруг собора думали ставить леса, но квартальный комиссар привёл одного обывателя, русского кровельщика. Русский кровельщик брался снять крест без лесов, из слухового окна колокольни, опоясав себя канатом.
Кровельщик, приведённый комиссаром, был молодой мещанин в синем кафтане, стриженный в скобку и с русой бородкой. Его тонкое лицо испуганно подёргивалось. Он мял в руках картуз, кланялся и озирался на офицеров и сапёр.
— Хреста отчего, — говорил мещанин, — Хреста снять можно… Лемонтра или надобность, починка ежели, можно снять…
Когда император придержал у толпы коня, кровельщик уже принялся за свою работу: высоко в зеленоватом небе к золочёному куполу Благовещения как бы по чёрной нитке взбирался чёрный мураш, крошечный человечек. Было видно, как человечек подрыгивает ногами, вот сползает вниз, вот лезет снова.
Он закинул верёвку из слухового окна на светящийся крест Благовещения, повис, и верёвка выгнулась под тяжестью его тела.
Человек раскачивался и бил ногами по воздуху, его тело толкалось о бок купола, он обхватил его рукой, припал и стал обходить купол, сметая на площадь снег. В толпе прошёл одобрительный гул.
Инженерный офицер сказал императору, что смелость русского мастера достойна награды.
Император взглянул на офицера с насмешливым раздражением:
— Вы сказали, он русский?
— Русский, Ваше Величество.
— Он согласился снять крест? Таким лучшая награда — расстрел… Расстрелять его!
Император сильно дал шпоры, поскакал.
Инженерный офицер, оробев, поднял руку к киверу и, моргая, долго смотрел на колыхавшуюся кавалькаду свиты…
Кровельщик подошёл к толпе сапёр, тяжело дыша, сам потный, картуз за поясом, дымятся стриженные в скобку волосы, с впалой щеки содрана кожа, и сочится кровь в русой бородке.
Солдаты его же кушаком связали ему за спину руки. Тонкий нос кровельщика был орошён капельками пота, плечи синего кафтана дымились.
Кровельщик не понимал, зачем ему вяжут руки, но давался, переступал с ноги на ногу и скашливал.