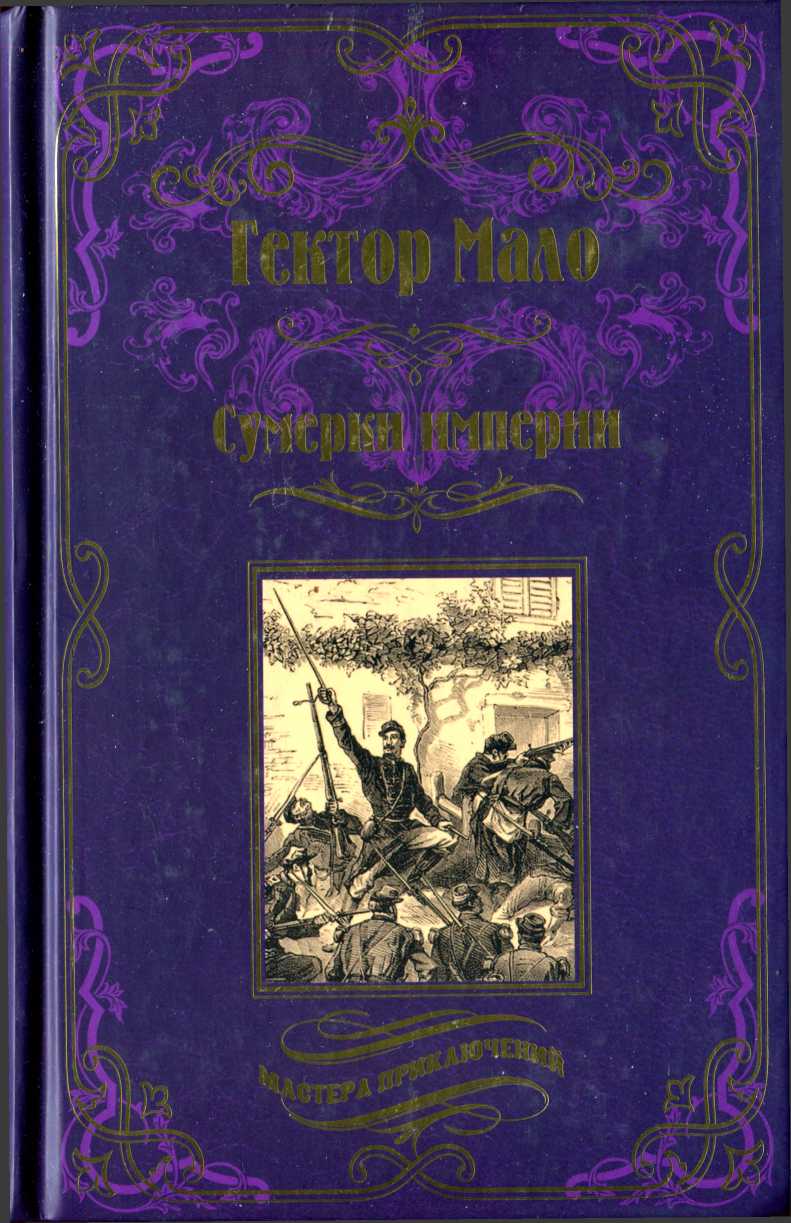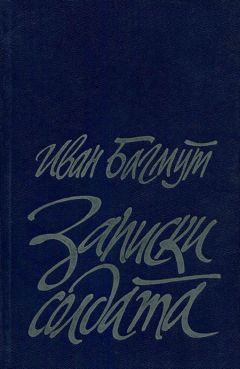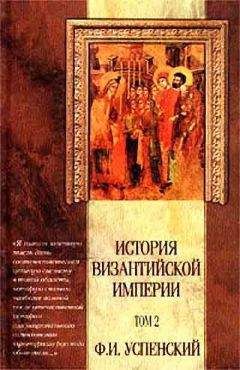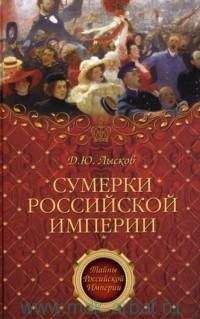известен всем,
План, план, план, план, план.
Затем, попеременно впадая то в веселье, то в уныние, он поведал мне о нищете обывателей, дороговизне продуктов и страданиях детей, умирающих прямо на руках у своих матерей.
Его рассказ звучал, словно эхо, доносившееся из осажденного Парижа, к которому сейчас было приковано внимание всего мира.
Впечатление было такое, будто передо мной выворачивается наизнанку душа целого города. В его бессвязном, но искреннем рассказе было все: и иллюзии простого народа, и ликование по поводу придуманных побед, и уныние от реальных поражений, и неубиваемое доверие людей, старающихся не терять надежду, и готовность на жертвы, и склонность к благородным порывам, и отчаяние разлученных семей, и радость от полученной весточки, и боль напрасного ожидания, и доведенная до абсурда чрезмерная национальная гордость, и упорная вера в победу, и твердое намерение встать с колен, и ненависть к врагу.
Я с огромным вниманием слушал его волнующий рассказ, сопровождавшийся звуками перестрелок и редких пушечных выстрелов, проникавшими в наш подвал.
Время, которое еще недавно едва тянулось, теперь стремительно понеслось вскачь. Уже вечерело. В подвале становилось все темнее, и наконец наступила ночь.
— Похоже, — проговорил парижанин, — о нас и вправду забыли. Ваши шансы увеличиваются.
Но радовались мы недолго. В восемь часов на лестнице загремели шаги, и дверь отворилась. За нами пришли.
— Ночь темна, — сказал мой компаньон, — а до Версаля путь не близкий.
Но повели нас вовсе не в Версаль. То ли охранники заметили, как я возился с решеткой, то ли они решили, что дверь не надежна, но, как бы то ни было, нас решили не оставлять на ночь в погребе и просто-напросто перевели в большую гостиную на первом этаже, в которой размещались солдаты. Теперь мы находились буквально под носом у охранников, и им было легче нас контролировать.
Он принялся рассказывать мне о Париже… о жарком из крыс
— Располагайтесь в том углу, — сказал сержант, знавший французский язык.
В гостиную вели две двери. Одна выходила на улицу, где прогуливался часовой, и была закрыта, а вторая, открытая, выходила в прихожую. Выделенный нам угол был далеко от открытой двери и рядом с закрытой дверью. Но какое это имело значение, ведь о побеге нельзя было и помыслить, потому что прямо на паркете вокруг большого камина, в котором горели гигантские поленья, разлеглось не меньше дюжины солдат. Чтобы пробраться от одной двери к другой, пришлось бы идти прямо по их телам.
— Мы тут прокоптимся от этого дыма, — сказал мой компаньон, окинув взглядом помещение.
— Да, много дыма, — откликнулся сержант и громко расхохотался. — Французы не любят дым.
— О, в этом, как и во всем остальном, немцы сильно опередили французов, — отметил парижанин с неподражаемо серьезным видом.
XII
Сержант был очень горд своим остроумием, казавшимся ему чисто французским. Он захотел продолжить беседу с моим компаньоном, а тот в свою очередь, настолько охотно откликнулся на это желание, что мне даже показалось, что парижанин решил его разыграть.
— Знаете, — сказал он, обращаясь к сержанту и одновременно подмигивая мне, чтобы привлечь мое внимание, — я ведь имею право на особое к себе отношение. Я не обычный пленный. Я дезертир. А дезертировал я потому, что жить в Париже стало просто невозможно.
— О! Что вы говорите?
— Хлеб там теперь пекут из костей, которые собирают на кладбищах, а вместо быков и баранов жарят маленьких детей.
— Вы ели детей?
— Я и сбежал, потому что не хотел их есть.
— О! Парижане сами в этом виноваты.
— Как это так?
— Поделом им. Они заслужили такие страдания.
— Вот и я так всегда говорил.
— Зачем они хотят продолжать войну? Они упрямятся, а зря.
— Это же очевидно. После того, что случилось под Виссенбургом, французы должны были вежливо поинтересоваться у немцев, чего желают господа пруссаки, а узнав, немедленно выдать им это самое, не дожидаясь, когда их об этом попросят. Вот война сразу бы и прекратилась. Немцы ведь не злые. Если бы сразу отдали все, что им требуется — Эльзас, Лотарингию, деньги — они и не стали бы продолжать войну. Им избиение французов ни к чему.
Нас просто-напросто перевели в большую гостиную на первом этаже, в которой размещались солдаты
— Денег точно попросили бы меньше, и мы бы пораньше отправились по домам. Беда в том, что эти французы страшно заносчивые.
— В этом вся беда.
— А еще они невежды. Они так и не поняли, в чем состоят намерения Германии. Вот теперь они и пожинают плоды своей заносчивости и своего невежества. Болезнь, от которой страдает Париж, можно лечить только диетой и кровопусканием. Пусть он поголодает и отощает, это его успокоит.
Тут мое хладнокровие исчерпалось, и я решил вмешаться, но мой товарищ затолкал меня в угол.
— Немцы прекрасные врачи, — сказал он. — Они очень практичные. Действительно, надо быть слепыми, как все французы, чтобы не понять, насколько эффективно такое лечение. Счастлив тот народ, у которого такие честные и милостивые соседи.
— Германия хочет одного, — продолжал сержант, — жить в мире, предварительно забрав то, что ей принадлежит, и устроив все таким образом, чтобы впредь на нее не нападали. Если бы у этих тупоголовых французов было хоть немного здравого смысла, они оставили бы нас в покое. Мы воюем не для собственного удовольствия, а во имя справедливости.
— То, что вы говорите, совершенно очевидно. Но во Франции не хотят признать, что немцы — народ честный, высокоморальный, искренне верующий, открытый, благородный и исполненный добрых намерений. Мы совершенно их не знаем и лишь по этой причине считаем немцев лицемерами, грабителями и лжецами. Встречаются среди нас и такие, кто утверждает, что немцы глупы.
— Это уже слишком! — воскликнул сержант.
Я был уже не в состоянии выслушивать подобные шутки и поэтому растянулся на паркете и натянул меховую шапку на самые уши.
Только через час я решил посмотреть, что происходит в помещении. Сержант принес бутылку, в которую была вставлена горящая свеча, и что-то писал, положив бумагу на колени. Рядом с ним на скамье лежала стопка писем, написанных на бланках компании.
— Вы пишете отчет? — спросил парижанин.
— О нет! Я отвечаю на письма, полученные моим торговым домом. Мне их переправляют прямо сюда. Я ведь по профессии не солдат, а винокур. Сразу после объявления войны меня призвали на военную службу, и отсюда я руковожу моей компанией. Все это крайне неудобно, и поэтому я очень зол на