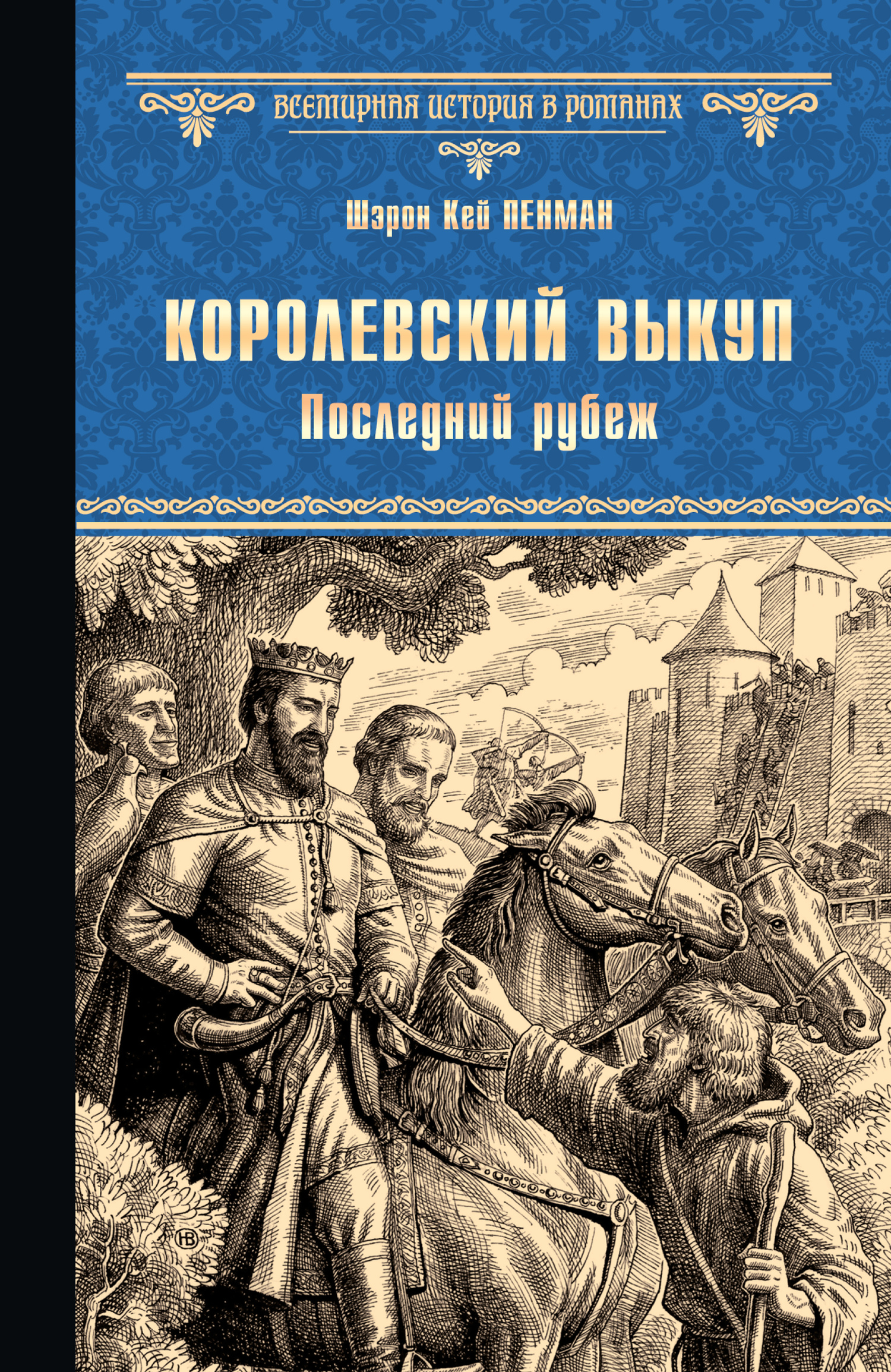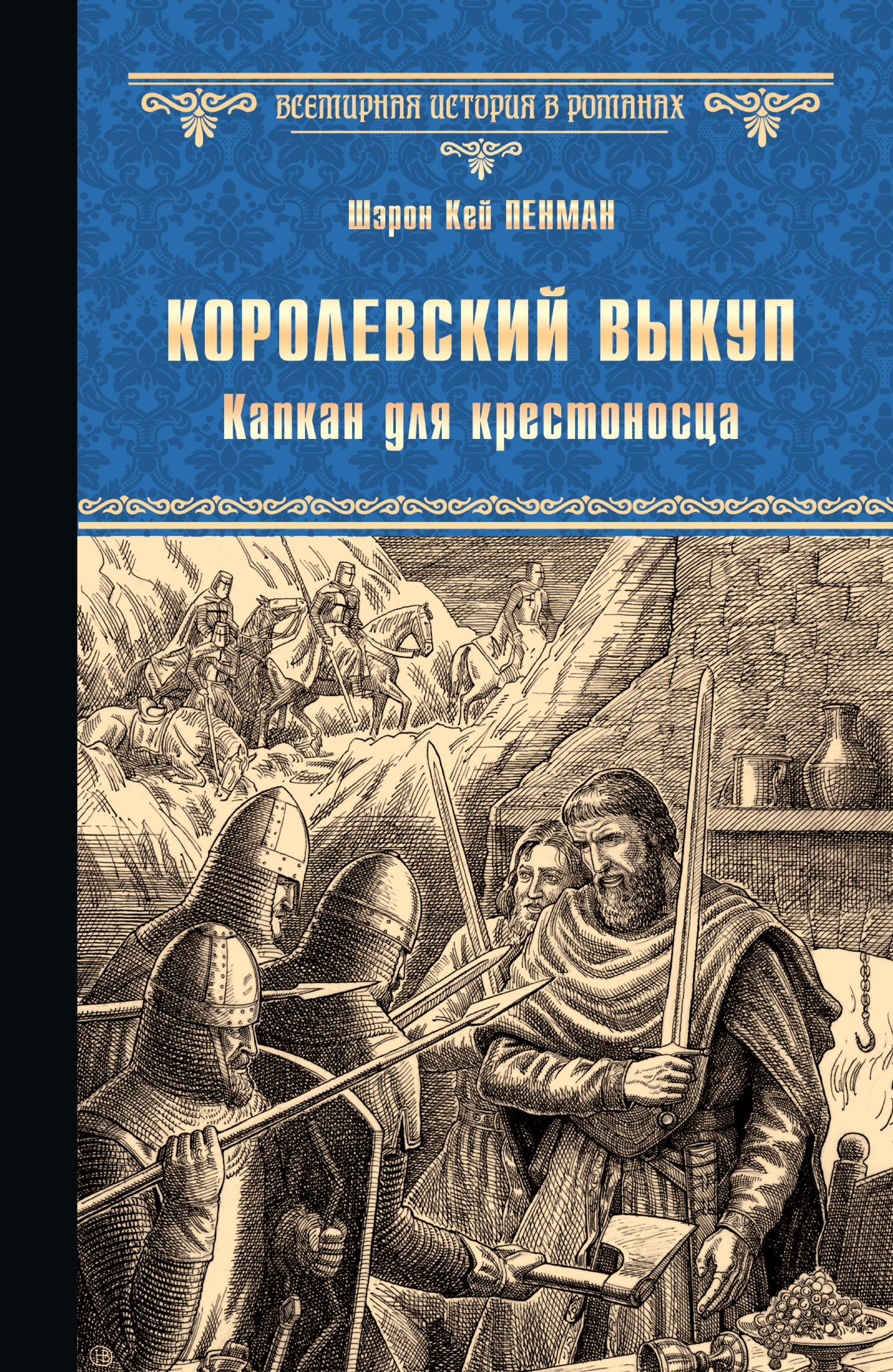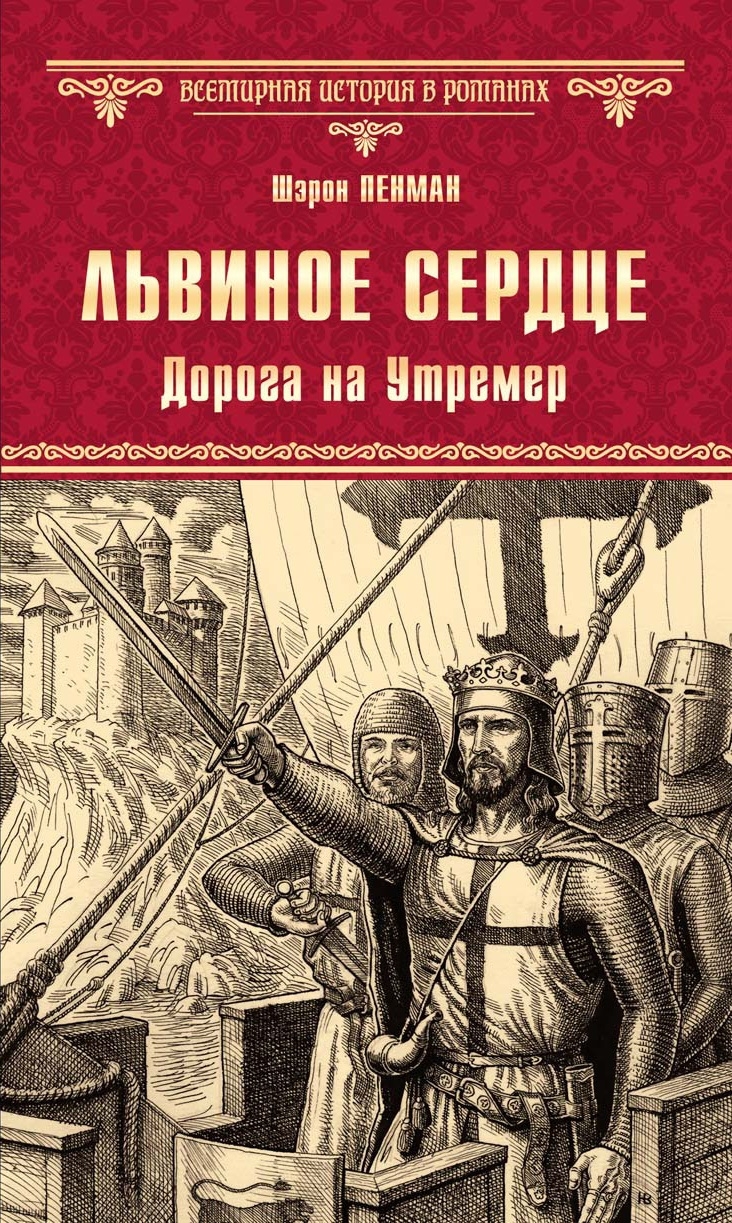выздоровление, ни облегчить боль. Сначала было очень горько, ведь ей досталось всего чуть более года свободы, всего год правления на Сицилии. Год, чтобы избавить королевство от немцев, чтобы побыть рядом с сыном – привилегия, которой лишил ее Генрих, отдавший Фридриха вскоре после рождения под опеку графини Сполето. Один год, месяц и двадцать семь дней, чтобы побыть королевой, матерью и, благодарение Богу, вдовой. Мало времени. Совсем мало.
Она приняла это, как встречала все переломы в жизни – не дрогнув, без жалости к себе и без паники. Главное – ее сын, которому оставалось чуть меньше месяца до четвертого дня рождения. Она изгнала Маркварда фон Аннвейлера, которого Генрих сделал герцогом Равенны и Романьи. В мае она короновала Фридриха как короля Сицилии, предоставив Отто и брату Генриха Филиппу соперничать за имперскую корону. И Констанция обратилась к единственному человеку, которого считала достаточно могущественным, чтобы защитить ее сына – к новому папе Иннокентию III. В своей последней воле и завещании она назвала Иннокентия опекуном Фридриха, пока тот не достигнет совершеннолетия. Теперь, в свои, как она знала, последние часы, Констанция могла лишь молиться, чтобы этой меры оказалось достаточно и ее сын был в безопасности под защитой церкви, и чтобы он не слишком быстро забыл свою мать.
* * *
Джон не посетил рождественский двор брата в Домфроне, поскольку теперь, лишившись соперника в лице Отто, не чувствовал особой необходимости угождать Ричарду. Но вызовом матери пренебречь не смог. Едва его сопроводили в ее личные апартаменты в аббатстве Фонтевро, Джон сразу почуял неладное. Он был один, и хотя в очаге пылал огонь, комната показалась ему очень холодной.
– Ты все же пришел. Я не была уверена.
– Конечно, я пришел. Ведь ты посылала за мной, разве нет? – Улыбка Джона угасла. – Так что случилось? Почему ты на меня так смотришь?
– А ты как будто не знаешь! – Алиенора неподвижно стояла у очага, пока Джон не пересек комнату. Но как только он оказался в пределах досягаемости, она сделала два быстрых шага навстречу и ударила его по губам. – Ты дурак! Ты полный дурак!
Джон ахнул, и когда мать подняла руку, словно хотела ударить снова, схватил ее за запястье.
– Господи, матушка, что с тобой? За что ты на меня разгневалась?
– В самом деле, за что? Для тебя предательство естественно, как дыхание. А я, глупая, думала, что ты мог измениться! – Алиенора выдернула свое запястье и принялась вышагивать по комнате. – Больше четырех лет без промахов, четыре года верности. Ты доказал Ричарду, что не так никчемен, как он думал раньше, что ты способен не только устраивать интриги и заговоры. И все напрасно. Во имя Бога, зачем? Какой демон тобой овладел, почему ты все это отбросил?
– Я не знаю, о чем ты толкуешь. Что же я, по-твоему, сделал?
– О, довольно. Мы знаем. Филипп предал тебя – не правда ли, как забавно? Он прислал Ричарду сообщение, что ты опять строишь против него козни и предлагал альянс с французской короной.
– Ричард в это поверил? И ты поверила? – Джон растерялся. – Я не удивлен, что Ричард так легко готов заподозрить во мне самое худшее. Но ты, матушка… Видит Бог, от тебя я ожидал большего!
– Филипп утверждает, что у него есть письмо, написанное твоей рукой и подтверждающее твое участие в этой интриге.
– О, Бога ради! Да какое же еще доказательство моей невиновности требуется? Неужели ты думаешь, что я так глуп, что будучи каким-то образом вовлечен в измену, стал бы выдавать себя собственноручным письмом?
Алиенора ощутила первый укол сомнения.
– Твое оправдание звучит очень правдоподобно. Но ведь ты все и всегда отрицаешь, Джон.
– Вы с Ричардом поверили этому безумному обвинению лишь потому, что хотели поверить, матушка. Ты сама сказала – я потратил годы, чтобы вернуть расположение Ричарда. Думаешь, мне нравилось быть у него на побегушках, терпеть насмешки его друзей, зная, что он предпочел бы Артура, не будь бретонцы так глупы? Или думаешь, что я променял бы эти четыре года на такую фальшивую монету, как слово Филиппа? Господи, матушка! Ну что бы я выиграл, затеяв интригу с Филиппом? Мы оба знаем, что ему никогда не победить Ричарда на поле боя!
Алиенора никогда не видела Джона таким разгневанным, слишком злым, чтобы хитрить и изворачиваться. Это не была защита с расчетом смягчить королеву. И столь хладнокровная и беспощадная честность убедила Алиенору больше, чем любое возмущенное заверение в преданности. Да и сама аморальность аргументов Джона выглядела весьма убедительно.
– Где сейчас Ричард? До сих пор в Домфроне?
Алиенора больше не сомневалась. Ничто не могло лучше подтвердить невиновность Джона, чем то, что он готов найти Ричарда. Когда Джон бывал виноват, последнее, чего ему хотелось – это предстать перед обвинителями, столкнуться с теми, кого он предал.
Алиенора испытала невообразимое облегчение. За ее готовностью поверить в виновность Джона крылось воспоминание о длинном списке его измен и клятвопреступлений, но отчасти это был страх, что она ошиблась в нем и он не такой прагматик, как ей казалось. Если он в самом деле что-то затевал против них вместе с Филиппом, значит у него безнадежно не в порядке с головой, и о наследовании короны не стоит заводить даже речи. Но Алиенора отталкивала от себя подобные заключения, поскольку они означали конец всем ее надеждам на продолжение анжуйской династии, мечтам, что поддерживали ее даже в худшие времена. Руководили они и ее супругом.
Алиенора резко опустилась в мягкое кресло.
– Слава Богу, – сказала она просто, но с чувством, достаточным, чтобы смягчить нанесенную Джону обиду.
– Ну конечно, я принимаю твои извинения, матушка, – сухо ответил он.
Праведное возмущение было глубоко чуждо его характеру, чересчур ироничному, чтобы испытывать высоконравственное негодование. Теперь, когда принц уже не боялся ответственности за грех, в котором на самом деле не виноват, Джон начинал видеть в своем положении нечто извращенно-забавное.
– «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым» [17], – он процитировал Екклесиаста и ухмыльнулся. – Но что я могу поделать? В конце концов, часто ли мне удавалось раскрыть душу под твоим взыскательным оком… и после этого остаться в живых?