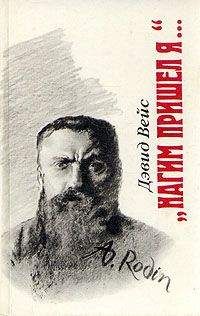Гермоген ответил вопросом на вопрос:
— Ужли запамятовал ты, князь, про измену воевод Валуева и Елецкого?
— Владыка, не препираться мы пришли к тебе, помоги государством править. Разумом своим, мудростью наставляй нас. Нам собор Земский сзывать.
— При живом-то государе? Не-ет, — затряс седой головой Гермоген. — Только Василия зрю на царстве и вам, бояре, велю: кайтесь.
— Не бывать этому, владыка, — оборвал его Воротынский. — Не прочь во цари монаха.
— Это Василий-то монах? — возмутился Гермоген. — Князь Туренин монах. Он за государевой спиной при пострижении обет давал, а Василий молчал. Слышите, кто монах? Ту-ре-нин.
Патриарх опустился в кресло, долго молчал, наконец промолвил:
— Устал яз, бояре, оставьте меня. Не стану я советчиком в делах ваших черных. Царем же единым Василия признаю.
Никогда не испытывал Матвей Веревкин такой уверенности в удаче, как после свержения Шуйского. Теперь, когда в Можайске коронный гетман и королевские гусары уже седлают коней, чтоб въехать в Первопрестольную, люд московский подумает, кому открывать ворота: ляхам, католикам или ему, царю Дмитрию, православному…
Матвей Веревкин представлял, как на белом коне, в царских одеяниях он въедет в Кремль. Два именитых боярина (верно, Мстиславский и Шереметев) будут вести за уздцы его коня, а за царем — карета с наследником. Вся Москва выйдет встречать сына царя Ивана Грозного, а в пятницу он откроет Думу и велит принять присягу. Что до Шуйского, то он, Матвей Веревкин, отправит его в отдаленный монастырь…
В преддверии скорых перемен Матвей Веревкин удивлял всех трезвостью и даже советовался с Мариной, как поступать с Жигмундом. Мнишек предложила поладить с королем полюбовно, отдав ему Смоленск и иные порубежные земли.
Самозванец с Мариной хотя и согласился, однако в душе решил, что созовет ополчение и двинется к западным границам на случай, если король станет продолжать войну с Россией.
Вечерами, когда небо серело и сгущались сумерки, Федор Иванович Мстиславский обходил хоромы. Высоко подняв свечу, князь спускался в подклети, трогал замки, заглядывал в людскую, каждый раз наказывая сторожам:
— Не дремлите, ибо по миру пойдем.
На Москве неспокойно, холопы волнуются, разбойничают, воровской люд боярские житницы грабит, в купеческих лавках хозяйничает, шалит по гостевым дворам. На ночь накрепко закрывались ворота Кремля и Китай-города, Белого и Земляного, но нет спасения от лихих людей. Тати душегубствовали, а стрельцы отказывались нести караульную службу, требовали денежного жалованья и хлебного довольствия. А откуда его набраться, коли нет в Москву подвоза?
По кабакам и на торжище таясь читали подметные письма. Самозванец требовал впустить его в город, сулил люду свободу и землю, а боярам и дворянам царских милостей и замирить землю…
Настороженно жила Москва. Одни за Дмитрия ратовали, другие королевича Владислава в московские цари прочили. Москва жила в ожидании нового мятежа…
Вздохнул Мстиславский: взяли бояре власть, да трудно держать ее. Может, понапрасну Василия свергли? Однако теперь сожалеть поздно…
А Шуйский рядом, в келье Чудова монастыря, поблизости от хором Мстиславского. Но из монастыря нет Василию возврата в мирскую жизнь. Бояре говорили Мстиславскому: бери власть государеву, ты сердцем добр и царствовать станешь по разуму. Но он отказался. Хоть и рода Мстиславские именитого, да не для скипетра царского рожден князь Федор. А вот королевич Владислав и молод и к советам боярским должен прислушиваться.
На прошлой неделе прислал Жолкевский грамоту и в ней писал, что намерился идти в Москву защищать бояр от бедствий.
Собрал Мстиславский Думу, но патриарх не явился, передав: без государя Думы не признаю.
Долго рядились бояре, что коронному отвечать. А больше всех Голицын ершился, расчет держал, ну как назовут его государем. Но никто имя князя Василия Васильевича и не упомянул, а Засекин самозванца предложил, но на него зашумели. Мстиславский имя Владислава произнес, и ему не стали перечить, но оговорили: покуда Жигмунд условия Думы не исполнит, царства Владиславу не видать. Коронному же гетману Дума отписала, что Москва Жолкевского защиты не ищет, а ежели он к городу приблизится, то встретят как недруга…
Покуда Мстиславский хоромы обходил, запоры проверял, какие только мысли в голову не лезли, а боле всего бремя власти тяготило и заботило: что, как во Владиславе ошиблись? Станет ли королевич Русь беречь либо будет править из-под отцовской руки? Ох, не просчитаться бы, ведь не на год царя избираем, а на века род его государей давать будет вместо Рюриковичей…
Не у брата Ивана Никитича Романова поселился митрополит Филарет, воротившись из Тушина, и не в своих московских хоромах, откуда был вывезен по велению Годунова в Антониев-Сийский монастырь, а, как прежде, в келье Чудова монастыря.
Многие часы проводил митрополит в монастырской книжной хоромине.
Один на один с книгами и рукописями, полными тайн, обретал митрополит покой от мирской суеты, а она напоминала о себе, едва ступишь за монастырскую ограду, боярским заговором, смутой и возмущением черни.
Келья Филарета неподалеку от кельи Шуйского, но митрополит избегал разговора с Василием. Сказал как-то архимандриту:
— Не время утешать, пусть смирится.
Ему ли, боярину Федору Никитичу Романову, не понять Шуйского. Разве мог он забыть, что творилось в его душе, когда, оторвав от семьи и боярского дома, увезли его в монастырь?..
По истечении недели, как постригли Шуйского, Филарет все же зашел к нему. Василий, в черном монашеском одеянии, с непокрытой головой, стоял в углу, перед образом Христа. Тлела лампада, на налое — закрытое Евангелие. Через зарешеченное оконце сочился блеклый свет.
Шуйский встретил митрополита настороженно, заметил с обидой:
— Долго же ты, владыка, не навещал меня. Я поддержки твоей ждал душевной. Аль и ты на меня зло держишь?
— Не начинай встречи с попреков, и почто мне на тебя зло держать? Господь повелел прощать обиды даже врагам своим, а мы с тобой — поди, не запамятовал — в единомыслии.
Уселись на скамью. Митрополит продолжил:
— Смирись, Василий, видать, Господу угодно такое.
— Богу? Нет, владыка, Мстиславскому с Воротынским да Ляпуновым с иными. Они народ науськали. Смирись, говоришь, а сам, поди, как взбунтовался, когда тебя подстригали?
— Истину речешь, Василий. Моя боль, одначе, многократней твоей была. Я семьи лишился, детей. И поныне слухами о них живу. Но настал час, и я разумом понял: так мне Всевышний предначертал.
— Ужли и Господне повеление иноверца, латинянина, на престол звать? — насмешливо спросил Шуйский.
— Не в нашей воле суть и даже не в патриаршей.
— Значит, быть Руси под семенем Жигмундовым, а патриарху под папой римским?
— Тому не бывать! — резко оборвал Филарет.
— А ежли Владислав посулит веру сменить?
В келье надолго воцарилось молчание. Наконец Филарет встал и заговорил:
— Ты, Василий, на судьбу сетуешь, небось мыслишь: тебе, боярин Федор Никитич Романов, нынче хорошо, в митрополиты рукоположен. А так ли? Я с боярами, какие за королевича ратуют, не заедине и, коли они посольство к Жигмунду наряжать почнут, попрошу патриаршего благословения, сам в Речь Посполитую поеду с послами и Церковь нашу от Унии отведу.
Сник Шуйский:
— Чую, владыка, еще не всю чашу испил я. Об одном прошу: пусть оставят меня в Чудовом монастыре, не отправят в пустошь отдаленную.
Филарет посмотрел на него с укоризной:
— Гордыней обуян ты, Василий.
Шуйский отвернулся к оконцу, промолвил глухо:
— Почто все вы ужалить меня норовите? Была у меня одна радость — Овдотья. Отняли, в монастырь заточили. Теперь вот меня. Да еще вознамерились подале от людских глаз услать. Опасаетесь!
Филарет лицом посуровел:
— О спасении души молись, Василий, а не о благе телесном…
Смоленск держался.
Не сломленный огнем орудий и голодом люд и стрельцы затворились за городскими стенами, отчаянно отбивали приступы, а в часы затишья и ночами заделывали пробоины, хоронили убитых.
Не раз подступало коронное войско к укреплениям, тащили лестницы и плетеные щиты, и тогда на соборной звоннице ударял большой колокол, на стены становился оружный народ и стрельцы. Пылали костры под чанами со смолой, кипела вода, а над воротней башней поднимали червленую хоругвь.
Народ торопился с баграми и бадейками, поджидали, когда ляхи и литва полезут на стены, сталкивали лестницы в ров, лили на головы смоляной вар и кипяток, отчаянно рубились саблями, били бердышами и топорами, кололи вилами.
Начиная штурм, Сигизмунд устраивался на холме, следил, как разворачивается действие. Рядом с королем топталась свита, обсуждала ход сражения. Сигизмунд в зрительную трубу видел: его воины перебегают ров, карабкаются на стены, но осажденные дерутся отчаянно. Король злился: когда город будет взят, он велит не щадить ни женщин, ни детей. Жестокая кара обрушится на защитников Смоленска…