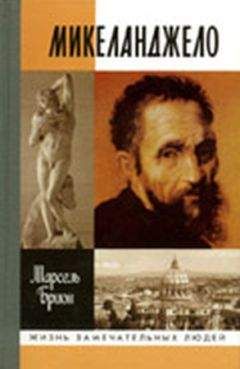Командующий говорил, что надо продолжать наступление, изгнать врага из Одессы. На следующий день утром он собрал в березовской школе всех командиров — и ротных, и батальонных. Пархом подумал, что командующий сделал это, очевидно, не без просьбы мудрого Козыря, потому что понимает «Максим-батько», как с уважением называли его за глаза однополчане, что следовало бы подбодрить командиров. Ведь кто они? Как и сам Козырь, недавние рядовые царской армии, которых за смышленость произвели в ефрейторы, унтер-офицеры или фельдфебели, а теперь они красные командиры, им доверено командовать полками и батальонами, а о ротах нечего и говорить!
Уселись встревоженные, сжав ногами сабли — признак командирской власти. А командующий, сняв шинель, поправил пояс на гимнастерке и прошелся строевым шагом. Улыбнулся и сказал просто, словно разговаривал со старыми знакомыми, близкими друзьями:
— Давайте познакомимся, товарищи. Меня зовут Анатолий Евгеньевич. Фамилию знаете — Скачко. Партия поручила мне возглавить Вторую Украинскую советскую армию. Чтобы ближе познакомиться, я буду подходить к каждому, а вы называйте командирскую должность, имя, отчество и фамилию. И еще, какой чин был в старой армии, какие были награды? Почему я спрашиваю об этом? Потому что много рядовых стали красными полководцами. Я всю войну провел на передовой в солдатских окопах. Воевали против кайзера и цесаря. Много слышал о храбрости солдата Василия Чапаева, он был рядовым триста двадцать шестого полка восемьдесят второй дивизии. Мы воевали на полях Галиции. Так вот Чапаева сделали младшим унтер-офицером, хотя он не прошел даже ефрейторского пути. Вы, наверное, слышали про брусиловский прорыв три года тому. Перед этим прорывом Чапаеву за храбрость присвоили звание фельдфебеля, а через несколько дней дали четвертый Георгиевский крест. А теперь Чапаев в Красной Армии на очень высоком посту — он командир бригады и командующий первой и второй Николаевскими дивизиями. Вот вам и рядовой из крестьян Казанской губернии! Простите, что задерживаю вас этими подробностями, но думаю, что каждый из нас должен мечтать о мундире красного командира.
Он подходил к каждому, внимательно выслушивал и крепко пожимал руку.
Когда Пархом, быстро поднявшись, четко отрапортовал, не забыв сказать о Георгиевском кресте, Скачко задержался и спросил, за что получил его. Узнав, что за Перемышль, Скачко сказал, что и он был там. Пархом добавил, что во время отступления он воевал возле Станислава, Коломии, а под Коршевым был второй раз ранен и лечился в Коршеве. Оказалось, что и Скачко там принимал участие в боях.
— Значит, мы с вами, можно сказать, однополчане. — Еще раз крепко пожал руку Пархому и спросил, что он делал до войны.
Пархом коротко ответил:
— Рабочий Юзовского металлургического завода, участник горловского восстания девятьсот пятого года, член партии большевиков с того же года.
Скачко на мгновение задумался и не спеша произнес:
— Я старше вас на пять лет, а мой партийный стаж на двенадцать лет меньше. Что же, искренне желаю вам стать командиром части. Роты для вас мало. Вижу, что вы деловой и честный человек.
Ворочаясь на твердой вагонной полке и поправляя под головой вещевой мешок, Пархом вспомнил, как после встречи с командармом у него состоялся разговор с членом Реввоенсовета Второй армии Тищенко, проверявшим готовность батальона к походу на Одессу. В дружеской беседе он кое-что добавил к биографии командарма, и Пархом проникся к нему еще большим уважением. Оказывается, он был арестован в девятьсот шестом году и только случайно, благодаря друзьям, не попал в ссылку в Архангельскую губернию, а оказался в эмиграции. Там, в Женеве, встречался с Лениным. Не разговаривал с ним, не познакомился лично, а просто видел в библиотеке, здоровался, как здороваются все, кто там бывал. Скачко проникся к нему уважением, ибо много хорошего слышал о Ленине, который возглавил большевистскую партию. Интересна судьба бывшего инженера Анатолия Скачко. На фронте после Октябрьской революции солдаты избрали его командиром полка, а совсем недавно, в январе, он стал начальником штаба и командующим группы войск харьковского и одесского направлений. Так вот кто руководил бойцами пятнадцатого полка при штурме Березовки! Красный полководец Скачко! Настоящий высокий военачальник!
В июне девятнадцатого года Пархом вместе со своим полком оказался в Четырнадцатой армии. Бывшая Вторая армия, объединенная с другими частями, получила новое наименование — Четырнадцатая, и Скачко, сдав командование Ворошилову, поехал выполнять новое задание Центрального Комитета партии. Перед отъездом Скачко заехал на несколько часов в пятнадцатый полк, переименованный в пятьдесят пятый. Его провожали особенно тепло, помня, как он, командующий армией, по-человечески тепло разговаривал с ними в Березовке. Улыбаясь, Скачко рассказывал, как у него в салон-вагоне побывал тогда взятый в плен французский офицер. Отрекомендовавшись полковником, он с возмущением доказывал, что красные войска воюют исключительно плохо, нарушая правила. Он, гневаясь, пытался разъяснить Скачко, который в свое время отлично усвоил во французских военных училищах наставления по ведению боя, что в Березовке красные солдаты пренебрегли правилами ведения боя, а красные командиры не разбираются в тактике. Взять хотя бы бронепоезд. Он внезапно ворвался на станцию и подверг ужасному обстрелу дом, в котором размещался штаб французских войск. Никто не ожидал этого бронированного дьявола. А пехота! Это же позор! Совсем не знает элементарного порядка. Разве так воюют! Полковник возмущался, его рыжеватые усы наежились, как у обозленного кота. Где это видано, чтобы нападать на противника со всех сторон? Надо было наступать прямо, по фронту, и нормальной цепью, как принято, или врассыпную. А красные солдаты внезапно, где их совсем не ожидали, появлялись небольшими группами по нескольку человек. Невежды! Полковник так уверовал в свою правоту, что вначале не заметил иронических взглядов хозяина салон-вагона, не понимал, что был похож на циркового клоуна, а когда сообразил, что несет околесицу, тут же сник. «Вы понимаете, товарищи, — произнес в заключение Скачко, — я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. Однако выслушал его внимательно и спокойно сказал: «Извините, господин полковник. Действительно, наши бойцы и командиры воюют плохо. Они с винтовками атаковали ваши танки и захватили их как трофеи. Думаю, что вы простите бойцов за некультурность и неосведомленность в военных делах. Они штурмом взяли царский Зимний дворец, изгнали кайзеровцев-оккупантов, вытурили Петлюру и гетмана Скоропадского, разгромили Юденича, крепко пощипали Колчака и скоро окончательно добьют его, а сейчас стремятся в Одессу и, я уверен, непременно овладеют этим приморским городом и выбросят прочь белогвардейцев и всех оккупантов. Все эти поступки наших солдат и командиров объясняются тем, что они не учились в вашем Сен-Сирском военном училище. Таким образом, еще раз прошу принять мое самое искреннее извинение и заверение в почтении. Сам я тоже чувствую большую вину — жил во Франции, а не додумался пойти на выручку в Сен-Сир. Не обессудьте». И полковник наконец понял мою иронию. Куда девались его спесь, надменность и наглость.
Командарм хорошо показал полковнику преимущества только что рожденной советской военной науки над устаревшими французскими прописями и хорошо отхлестал острой иронией заносчивого педанта и обнаглевшего оккупанта, доказав ему, что Красная Армия является новой армией, которой еще не знал мир. Но особенно был шокирован и ошеломлен французский полковник, услышав, что советский «мсье женераль» говорит с ними на прекрасном французском языке.
Командарм доходчиво объяснил тогда мсье полковнику, что не красноармейцы нарушили правила ведения военных действий, а он, полковник, и ему подобные наглые агрессоры нарушили самые элементарные правила, ворвавшись, как разбойники, в чужую страну, где их никто не ждал и никто не приглашал.
Пархом благодарил судьбу, что она свела его с этим умным и энергичным человеком. Так командующий армией Скачко своими делами учил будущих военачальников. И вот теперь Пархом Гамай впервые в своей жизни едет в Москву, на военные курсы. Едет уже умудренный опытом двух войн да еще и незабываемого восстания рабочих. Неужели он никогда не вернется на завод, а станет военным человеком? Не хотелось бы. Но комиссар сказал, что нужно, этого требует партия. Перед отъездом из дивизии узнал, что Мария Ильинична работает в редакции газеты «Правда», и намерился во что бы то ни стало повидаться с нею.
Москва встретила Пархома декабрьским морозом. Выйдя из вагона на Александровском вокзале, он долго простоял в пропахшем табаком пассажирском зале, чтобы согреться. Хоть тепла не нашел и в зале, но тут было лучше, чем в холодном скрипучем вагоне. Дышал на пальцы, приплясывал, чувствуя за плечами ремни солдатского вещевого мешка. В неимоверной тесноте и приплясывать было трудно, ибо, сжатый со всех сторон, покачивался вместе с тысячеголовой толпой. До боли зашлись ноги от мороза, и казалось, что одеревеневшие пальцы примерзли к сапогам и вот-вот отвалятся вместе с задубевшими юфтевыми союзками. Начал пятиться назад, протискиваться сквозь толщу тел, а это было трудно сделать, потому что люди не только вплотную стояли друг к другу, но даже стоя спали. Ночные и утренние поезда выбросили тысячи пассажиров, им некуда было деваться. Большинство из них приезжие и приехали по различным делам — личным и служебным, а пересидеть утренние морозные часы негде. Вот они и толкутся под крышей вокзального приволья, никто же не выгонит их на мороз. А среди них и сотни мешочников. Приехали они что-нибудь нужное выменять на фунт пшена или десяток картофелин. Можно и рубаху выменять или солдатскую гимнастерку, а то и платок. И эта многоголосая толпа движется, кричит, ссорится и рыдает. У кого-то вырвали из рук деньги или сумку, а их владелица орет не своим голосом, взывает о помощи, да кто поможет, когда даже повернуться нельзя. Пархом, орудуя локтями, все-таки пробился на вокзальную площадь, где можно было подышать свежим воздухом. Не спеша достал кисет с табаком, зажег цигарку и пошел через площадь. Из-за угла улицы спешили, возвращаясь к вокзалу, извозчики. Кучера легких пролеток посвистывали, стегая кнутами своих лошадей, чтобы обогнать неповоротливые фаэтоны. По улице грохотали грузовые платформы, среди них кое-где проскакивали одинокие легковушки и грузовики. Звенели переполненные трамваи с висевшими, словно груши, на подножках пассажирами, которые держались и за раскрытые двери, и за задние стенки с выбитыми стеклами. По тротуарам торопились на службу в свои учреждения мужчины и женщины. Начинался трудовой московский день.