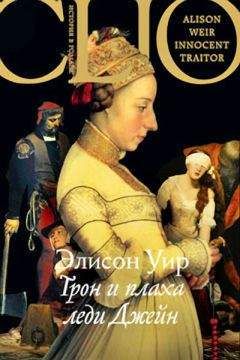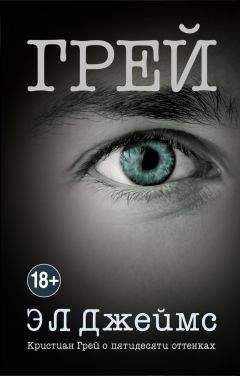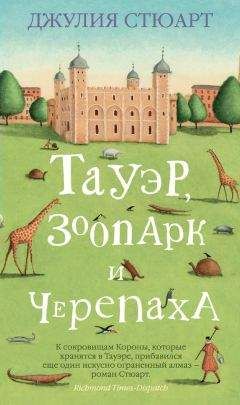— Ее величество желают отвести вам больше времени на обдумывание вашего вероисповедания. Повторяю: она обещает помиловать вас, если вы согласитесь, — говорит он мне и удивляется, видя мой страх.
— Увы, сир, — отвечаю я, — не по моей воле дни мои продлены. Я готовилась умереть завтра. Что же до самой смерти, то я ее всей душой презираю, и если ее величеству так угодно, я с готовностью приму ее. Поверьте, время на земле было мне в тягость, и я с нетерпением жду смерти.
Аббат, кажется, глубоко тронут. Но разве можно так горевать о смерти, ожидающей другого человека? В конце концов, христианину положено радоваться, когда душа возвращается домой к Господу, как пытаюсь делать я. Но у него такой вид, будто он сейчас расплачется.
— У меня к вам еще одно предложение, — говорит он. — Поверьте, мне понятны ваши сомнения…
— У меня нет сомнений! — перебиваю я.
— Миледи, я прилагаю все усилия, чтобы помочь сохранить вам жизнь и спасти вашу душу. А вы не хотите меня выслушать!
— Прошу прощения. — Я вдруг смиряюсь. — Пожалуйста, продолжайте.
Доктор Фекенэм улыбается:
— Мне подумалось, что было бы кстати устроить дебаты между вами и католическими схоластами и священнослужителями здесь, в церкви Святого Петра-в-оковах. Вы бы выслушали их аргументы, задались бы кое-каким вопросами и, по милости Божией, могли бы и передумать.
— Сомневаюсь, — отвечаю я. — Доктор Фекенэм, это было бы напрасной тратой моего бесценного времени. Подобные обсуждения годились бы, возможно, для живущих, а не для умирающих. Пожалуйста, оставьте меня и позвольте обрести мир в Господе.
Аббат берет меня за руку и заглядывает глубоко в глаза. В эту минуту я вижу на его лице такое сострадание и понимание, которые редко встретишь у человека, и моя решимость колеблется.
— Я прошу вас не отказать себе в этом последнем шансе, — настаивает он. — Я умоляю вас. Перед вами сейчас стоит выбор: все или ничего. Только подумайте: если ваши принципы ошибочны, разве не ужасно было бы умереть за них, и умереть в заблуждении?
— Хорошо, доктор Фекенэм, — сдаюсь я, — заявляйте ваши дебаты. Я буду участвовать, если вам так хочется.
Тауэр, Лондон, 9 февраля 1554 года.
Под конвоем солдат мы с доктором Фекенэмом возвращаемся из церкви. Проходя мимо эшафота, где я умру в понедельник, отвожу глаза. Но внутренне я торжествую от того, что осталась верна себе и не предала моих убеждений. Это было напрасное испытание, ибо я уже обрела мир в вере моей. Они пытались посеять сомнение в душе моей и смутить стойкость, и всякий раз, опровергая их выпады, я понимала, что выступаю адвокатом собственной смерти. Но мне была дана сила твердо стоять за правду, чему я поистине благодарна.
Лицо старого священника выражает безграничную скорбь. Вдали от моих инквизиторов он был со мною ласков. Но ему не удалось тронуть меня, и кажется, эта неудача будет преследовать его всю оставшуюся жизнь.
Я первой нарушаю молчание, когда мы приближаемся к дому коменданта, где аббат должен проститься со мною навсегда. Мне на глаза наворачиваются слезы.
— Я плачу, сир, потому что нам с вами больше никогда не встретиться, — говорю я ему. — Ни на земле, ни на небе, если только Господь не вразумит вас и не направит вашего сердца.
Задыхаясь от горя, он кладет свою ладонь мне на руку:
— Последняя просьба, миледи. Могу ли я сопровождать вас на эшафот?
Я тотчас настораживаюсь:
— Это приказ королевы?
Я не хочу, чтобы в мои предсмертные минуты мне опять докучали требованиями отречься.
— Нет, сударыня. Это моя личная просьба. Я не смогу проделать с вами весь путь, но провожу вас, насколько мне будет позволено.
Подобная доброта меня обезоруживает: это почти невыносимо. Он поистине хороший человек, при всей неправоте его религиозных убеждений.
— Конечно, — с теплотой говорю я.
Он внезапно оживляется, явно пытаясь скрыть от меня волнение, чтобы я сама не поддавалась горю.
— Ну, идите, дочь моя. У вас, наверное, много дел.
— Да, разумеется, — соглашаюсь я, смахивая слезы. — Я еще не написала всех прощальных писем, а также мне необходимо распорядиться моим небогатым скарбом. А еще нужно позаботиться о платье на понедельник. Оно должно быть черным, но мои уже немного поношенные.
— Миледи, за добродетель вашу и мужество Господь примет вас и в обносках, — выпаливает доктор Фекенэм. — Прощайте.
Он резко поворачивается и уходит. Вскоре после того, в уединении своей комнаты, я отдаюсь во власть глубочайшего горя. А затем, выплакав все слезы, заставляю себя встать и заняться насущными делами.
Тауэр, Лондон, 10 февраля 1554 года.
— Ваш батюшка здесь, в Тауэре! — кричит миссис Эллен, входя ко мне в спальню. — Его задержали и поместили сюда под арест.
— Что случилось? — спрашиваю я, затаив дыхание.
— После восстания он бежал в Брэдгейт, где захватил кое-какое имущество и скрылся. Но поднялся шум и крик, и вскоре граф Хантингдон…
— Который когда-то был его другом, — вставляю я.
— Да, — соглашается она, — но это было раньше. Так вот, граф нашел его в Эстли-парке, Уорвикшир, где тот прятался, всклокоченный, умирающий от холода и голода. Потом прибыли солдаты.
— Где же его держат? — спрашиваю я.
— Миссис Партридж не говорит.
— Ну, это не важно. Мне все равно не позволят с ним повидаться, да это было бы мучительно для нас обоих. На сей раз ему не избежать королевского возмездия. Он, как и я, обречен.
— Он это заслужил, — с горечью восклицает миссис Эллен.
Батюшка вызывает у меня противоречивые чувства. Я помню о дочернем долге, но он виноват во всех моих бедах, так что я должна подавлять в себе гнев и боль от его безрассудства, глупости, бессердечия и равнодушия к моей судьбе. Я не могу встретить смерть с ненавистью и обидой в сердце, и посему принуждаю себя простить его.
Когда же я получаю от него письмо, где он раскаивается в содеянном и умоляет меня о прощении, я не знаю, как мне поступить. Сэр Джон Бриджис, с чьего разрешения письмо было написано, говорит, что я могу послать ответ, если хочу, но не запечатывая.
Помня о моем христианском долге, я жалею отца, который тоже ожидает казни, да еще с совестью, отягощенной смертельными грехами. Дабы пробудить в нем заботу о здоровье его души, напоминаю ему, из милосердия, почему я должна умереть. Я пишу:
Батюшка,
Господу угодно приблизить мою смерть делами Вашими, хотя жизнь моя должна была продлиться благодаря заботам Вашим. Я со смирением принимаю это и возношу хвалы Ему за сокращение моих скорбных дней. Я почитаю за счастье, что, омыв мои руки непорочностью, моя безвинная кровь сможет воззвать к Господу Всемогущему.
Перечитав послание, я нахожу, что оно звучит жестко, и в последних строках смягчаю тон:
Да пребудет с Вами Господь, дабы в конце мы встретились на небесах.
Ваша покорная до смерти дочь Джейн.
Когда сэр Джон уносит письмо, мною овладевает раскаяние: я должна служить утешением отцу, а не быть ему судьею. Не стоит расходовать те немногие часы, что остались нам на земле, на взаимные обвинения. Я должна отойти к Господу с сердцем свободным от горечи. И посему в моем старом молитвеннике, принадлежавшем некогда бабушке Марии Тюдор и который я решила взять с собою на эшафот, я пишу второе послание батюшке:
Господь да утешит Вашу светлость. Хотя Господу было угодно взять у Вас двоих детей, не думайте, что Вы потеряли их, но верьте, что мы, утратив жизнь земную, обретаем жизнь вечную. Что же до меня, то я, почитающая Вас в этой жизни, стану молиться о Вас и в жизни иной.
Когда комендант приходит в следующий раз — он посещает меня дважды в день, дабы справиться, есть ли у меня все необходимое, — я прошу его позаботиться о том, чтобы после моей смерти молитвенник передали батюшке. Он читает, что я написала.
— Очень подходяще, очень соответствует моменту, — одобряет он. Затем, прочистив горло, говорит: — Сударыня, я хотел вас попросить… А не напишете ли вы и мне что-нибудь на память? — Его глаза передают гораздо больше, чем он может выразить словами.
Оглядевшись, я беру молитвенник в бархатном переплете, подаренный мне Гилфордом:
— Это для вас, сэр Джон. Я надпишу его вам.
И я пишу:
Время родиться и время умирать, и день нашей смерти лучше дня нашего рождения.
Ваш, и Бог тому свидетель, истинный друг.
Сэр Джон читает мои слова. Говорить он не может. Он молча кивает в знак благодарности и уходит.
Сдерживая слезы, я сажусь и принимаюсь сочинять речь, которую произнесу с эшафота. Она не будет длинной, ибо по утрам бывает холодно и люди не должны подумать, будто я оттягиваю свою казнь. Также не должно создаться впечатления, что я недовольна королевой или своим приговором, иначе дело кончится конфискацией всего имущества нашей семьи, если еще что-то осталось, мрачно думаю я. Батюшка, конечно, будет обесчещен и лишен жизни, титулов и владений. Последнее отойдет короне, обрекая матушку и сестер на жизнь в нищете. Посему я ничего не скажу против королевы. Мне на самом деле и нечего сказать.