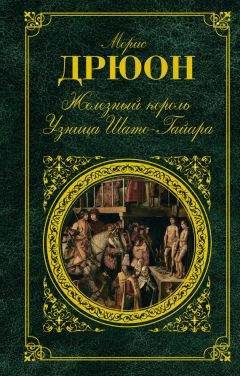– Если бы вы только знали, государь, до чего ж прекрасная у них страна, – произнес Бувилль, разглядывая пейзаж Неаполя, столь знакомый ему пейзаж, написанный на внутренней стороне обеих створок.
– Ну как, племянник, обманул я вас или нет?! – воскликнул Валуа. – Приглядитесь к цвету ее лица, а волосы, волосы – чистый мед, а благородство осанки! А шея, племянник, шея, какой женственный поворот головы!
Карл Валуа выхваливал свою племянницу, как барышник выхваливает на ярмарке назначенный к продаже скот.
– Осмелюсь со своей стороны добавить, что принцесса Клеменция еще авантажнее в натуре, чем на портрете, – сказал Бувилль.
Людовик молчал – казалось, он забыл о присутствии дяди и толстяка камергера: вытянув шею, ссутуля плечи, он стоял, как будто был наедине с портретом. Во взоре Клеменции он обнаружил что-то общее с Эделиной: ту же покорную мечтательность и умиротворяющую доброту; даже улыбка… даже краски лица были почти те же… Эделина, но рожденная от королей для того, чтобы стать королевой. На минуту Людовик попытался сопоставить изображенное на портрете лицо с лицом Маргариты, и перед ним возникли черные кудряшки, в беспорядке вьющиеся над выпуклым лбом, смуглый румянец, глаза, так легко загоравшиеся враждебным блеском… Но образ этот тут же исчез, уступив место облику Клеменции, торжествующему в своей спокойной красоте, и Людовик почувствовал, что возле этой белокурой принцессы он преодолеет немощь своей плоти.
– Ах! Как она прекрасна, по-настоящему прекрасна! – проговорил он наконец. – Бесконечно благодарен вам, дорогой дядя. А вам, Бувилль, жалую пенсион в двести ливров, которые будут выплачиваться из казны в виде вознаграждения за успешную миссию.
– О, государь! – признательно пробормотал Бувилль. – Я и так сверх всякой меры вознагражден честью служить вам.
– Итак, мы обручены, – снова заговорил Сварливый. – Остается только одно – расторгнуть брак. Обручены…
И он взволнованно зашагал по комнате.
– Да, государь, – подтвердил Бувилль, – но лишь при том условии, что вы будете свободны для вступления в новый брак еще до лета.
– Надеюсь, что буду! Но кто же поставил такие условия?
– Королева Мария, государь… Она имеет в виду несколько других партий для принцессы Клеменции, и, хотя ваше предложение считается наиболее почетным, наиболее желательным, ждать она не расположена.
Лицо Людовика Сварливого омрачилось, и Бувилль подумал, что обещанный пенсион в двести ливров, увы, улыбнется. Но король, не обращая внимания на камергера, с вопросительным видом обернулся к Валуа, который поспешил изобразить на своем лице удивление.
В отсутствие Бувилля, втайне от него, Валуа вступил в переписку с Неаполем, посылал туда гонцов и уверил своего племянника, что соглашение вот-вот будет заключено окончательно и без всяких отсрочек.
– Свое условие королева Венгерская поставила вам в последнюю минуту? – спросил он Бувилля.
– Да, ваше высочество.
– Это только так говорится, чтобы нас поторопить, а себе набить цену. Если по случайности – чего я, впрочем, не думаю – расторжение брака затянется, королеве Венгерской придется подождать.
– Как сказать, ваше высочество, условие было поставлено весьма серьезно и решительно.
Валуа почувствовал себя не совсем ловко и нервно забарабанил пальцами по ручке кресла.
– До наступления лета, – пробормотал Людовик, – до наступления лета… А как идут дела в конклаве?
Тут Бувилль рассказал о своем путешествии в Авиньон, заботясь лишь об одном: как бы не выставить самого себя в смешном виде. Он даже не упомянул, при каких обстоятельствах состоялась его встреча с кардиналом Дюэзом. В равной мере промолчал он о действиях Мариньи, он просто не мог обвинить старого своего друга и тем паче возвести на него напраслину. Ибо он не только благоговел перед Мариньи, но и побаивался его, зная, что тот способен на такие хитрые политические ходы, какие Бувилль не мог даже постичь. «Если он действует так, значит, у него есть к тому определенные основания, – думал толстяк. – Так поостережемся же неосмотрительно его осуждать». Поэтому в беседе с королем он упирал на то, что избрание папы зависит главным образом от воли коадъютора.
Людовик X внимательно слушал доклад Бувилля, не спуская глаз с портрета Клеменции.
– Дюэз… – повторил он. – Почему бы и не Дюэз? Он согласен быстро расторгнуть мой брак… Ему не хватает четырех французских голосов… Итак, вы заверяете меня, Бувилль, что один лишь Мариньи способен довести дело до конца и дать нам папу?
– Таково мое твердое мнение, государь.
Людовик Сварливый медленно подошел к столу, где лежал врученный ему братом пергамент с заключением комиссии. Он взял в руки гусиное перо и обмакнул его в чернила.
Карл Валуа побледнел.
– Дорогой племянник, – воскликнул он, в свою очередь подбегая к столу, – вы не должны миловать этого мошенника.
– Но все другие, кроме вас, дядюшка, утверждают, что счета верны. Шестеро баронов, назначенных для расследования дел, придерживаются такого мнения, а ваше мнение разделяет лишь ваш канцлер.
– Умоляю вас, подождите… Этот человек обманывает вас, как обманывал вашего покойного отца! – вопил Карл Валуа.
Бувиллю хотелось бы не слышать и не видеть этой сцены.
Людовик X злобно, исподлобья поглядел на своего дядюшку.
– Я вам повторяю: мне нужен папа, – отчеканил он. – И коль скоро бароны заверяют меня, что Мариньи действовал честно…
Так как дядя открыл было рот для возражения, Людовик X торжественно выпрямился во весь рост и изрек, запинаясь, с трудом припоминая слова, сказанные ему братом:
– Король принадлежит справедливости, дабы… дабы… дабы… она торжествовала через него.
И он подписал документ. Таким образом, Мариньи своей нечестной игрой в деле с конклавом, нечестной если не в отношении короля, то в отношении Франции, был обязан тому, что его репутация честного правителя восторжествовала.
Шатаясь как пьяный, вышел Валуа из королевских покоев и еще долго не мог подавить в себе бешенства. «Лучше бы мне, – думал он, – лучше бы мне найти ему какую-нибудь кривую и уродливую невесту. Тогда бы он так не спешил. Меня провели».
Людовик X обернулся к Бувиллю.
– Мессир Юг, – приказал он, – велите позвать ко мне мессира Мариньи.
Глава VIII
Письмо, которое могло изменить все
Яростный порыв ветра ворвался в узкое оконце, и Маргарита Бургундская отпрянула назад, будто кто-то с небесных высот грозил нанести ей удар.
Над верхушками Анделисского леса занимался робкий утренний свет. В этот час на зубчатые стены Шато-Гайара подымалась дневная стража. Нет на свете ничего более унылого, чем нормандский рассвет в ветреную погоду: с востока непрерывной чередой наплывают темные тучи, несущие с собой злые ливни. Верхушки деревьев изгибаются, как конские шеи, когда страх подгоняет коней.
Помощник коменданта Лалэн отпер дверцу, разделявшую на середине лестницы камеры узниц, и лучник Толстый Гийом поставил на табуретку две деревянные миски с горячей размазней. Потом, не говоря ни слова, громко топая, оба стража удалились.
– Бланка! – крикнула Маргарита, подходя к винтовой лестнице.
Никто не отозвался.
– Бланка! – еще громче крикнула Маргарита. Последовавшее и на сей раз молчание наполнило ее душу страхом. Наконец на лестнице послышался шелест платья и стук деревянных подметок. Вошла Бланка, бледная, еле державшаяся на ногах; теперь, при тускло-сером свете, заполнявшем темницу, было видно, что взгляд ее светлых глаз одновременно и рассеян и неподвижен, как взгляд умалишенных.
– Ты хоть поспала немного? – спросила Маргарита.
Ничего не ответив, Бланка подошла к кувшину с водой, стоявшему рядом с мисками, опустилась на колени и, нагнув сосуд до уровня губ, стала пить жадно, большими глотками. Уже не раз замечала Маргарита, что Бланка как-то странно ведет себя не только за столом, но и во всем, в самых повседневных мелочах.
В комнате не осталось ни одного предмета из обстановки Берсюме: комендант крепости забрал свою мебель еще два месяца назад, сразу после неожиданного появления в Шато-Гайаре капитана лучников Алэна де Парейля, привезшего устный приказ Мариньи не отступать от прежних распоряжений. Унесли потертый ковер, которым украсили стену в честь его светлости Артуа и ради угождения ему; унесли стол, за которым ужинали принцессы в обществе своего кузена. Место кровати заняли деревянные козлы и тюфяк, набитый сухой гороховой ботвой.
Однако, поскольку посланец Мариньи намекнул, что коадъютор Франции считает необходимым сохранить жизнь королеве Маргарите, Берсюме самолично следил за тем, чтобы в очаге поддерживали огонь, распорядился выдать одеяла потеплее и кормить узниц получше, во всяком случае, обильнее.