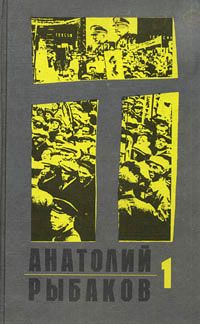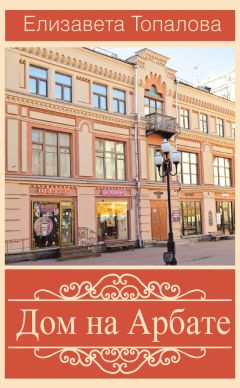– Соседская девочка мне говорит: Софья Леонардовна, к вам приходил какой-то страшный дядя.
Он усмехнулся тогда, но характеристикой был доволен: хотел, чтобы его боялись.
Софья мягкая, чуткая, заботилась о нем, в сущности, это была самая большая в его жизни любовь. Она примыкала к эсерам, но никогда не спорила с ним, в ней не было непримиримости партийных функционерок, своих мнений она ему не навязывала, наоборот, уклонялась от политических споров, видела, что всякое несогласие раздражает его. Но она не раздражала его, единственная женщина, которая не раздражала его. Однако их отношения оборвались… Она умерла от туберкулеза.
Конечно, он не Отрепьев, она не Марина Мнишек. И все же он допускает теперь, что первые его побудительные мотивы были вызваны именно этими образами, дремавшими где-то в дальних уголках мозга: польская аристократка и безвестный, несостоявшийся священник, подпольщик, с еще неясными, но далеко идущими планами.
В сентябре на Шиховском кладбище хоронили Ханлара Сафаралиева, рабочего-нефтяника, убитого черносотенцами. Была грандиозная демонстрация, ревели заводские гудки, в колонне шел ОН, шли Шаумян, Енукидзе, Азизбеков, Орджоникидзе, Джапаридзе, Фиолетов. ОН выступал с речью, была там и Соня. А через полгода и ее похоронили на том же кладбище. Не было демонстрации, не ревели заводские гудки. Шли за гробом соседки по дому, знакомые поляки. Опустили в яму, засыпали землей и ушли. А он остался, не хотел возвращаться с незнакомыми людьми, не о чем ему с ними разговаривать. Остался, присел возле свежего холмика.
Скалистый мыс Шихово далеко вдавался в море, возвышался над Биби-Эйбатом, уставленным бесчисленными нефтяными вышками. Возле них не было видно рабочих, но коромысла ходили вверх и вниз, качали нефть. Весна только начиналась, но солнце грело уже сильно, ОН сидел один на горе, на скалистом мысу Шихово, на берегу Каспийского моря, смотрел на залив, на бесчисленные нефтяные вышки. Он похоронил Соню, единственную женщину, которую ценил, но горе его не было всепоглощающим. ОН прошел тюрьмы – и Батумскую, и Кутаисскую, – и ссылку в Восточную Сибирь, и побег из ссылки, уже ушли его соратники по «Месами-Даси», погиб в тюрьме Кецховели, умер Цулукидзе. Все уходят, и все уйдут, жизнь человеческая – только миг в этом круговороте. Есть только СЕГОДНЯ – тоже миг, но для революционера миг истинной жизни. Только революционер и только властитель понимают малость и ничтожность человеческой жизни, но только властитель имеет право щадить себя. Собственная жизнь ничего не стоит, пока борешься за власть, но, когда овладеешь властью, тогда жизнь – награда победителю. Сейчас ОН победитель, он сумеет сберечь жизнь, потому что сумеет сберечь власть.
* * *
Все революционеры рискуют жизнью. И он рисковал, но был осторожен. Приезжая в Баку, сходил в Баладжарах и шел в город пешком берегом моря, вдоль нефтяных вышек. А когда уставал, присаживался на тропинке и, как вот сейчас, подставлял лицо солнцу, смотрел вниз на дорогу, на вышки, на море.
Что руководит революционером, что ведет его по тернистому пути? Идея? Идеи овладевают многими, но разве все становятся революционерами? Человеколюбие? Человеколюбие – удел слюнтяев, баптистов и толстовцев. Нет! Идея – лишь повод для революционера. Всеобщее счастье, равенство и братство, новое общество, социализм, коммунизм – лозунги, поднимающие массу на борьбу. Революционер – это характер, протест против собственного унижения, утверждение собственной личности. Его пять раз арестовывали, ссылали, он бежал из ссылки, скрывался, недоедал, недосыпал – ради чего? Ради крестьян, которые ничего, кроме своего навоза, не желают знать? Ради «пролетариата», этих работяг? В Баку он часто ночевал в рабочих казармах Ротшильда на Баилове, навидался «рабочего класса». В тот бакинский период он был уже видным партийным деятелем, был лидером большевизма в Баку. Любые попытки оспорить это – негодные попытки. Эти попытки он сумеет пресечь.
Сталин встал с кресла; где-то над головой летала пчела, гудела и гудела над самым ухом. Сталин отмахнулся от нее, она отлетела, села на стол, поползла к пепельнице, он прихлопнул ее томом Ключевского.
– Подлость, – сказал по-грузински, – подлость! – снова усаживаясь в кресло и возвращаясь к мыслям о тех временах, о подлой брошюре Авеля Енукидзе.
В этой брошюре Енукидзе вздумал вдруг рассказывать о подпольной типографии, которая существовала в Баку под кличкой «Нина».
Типография подчинялась Ленину, переписка шла через Крупскую, руководили типографией Красин, Енукидзе и Кецховели. Больше ни один человек, как пишет Авель, о ней не знал, следовательно, не знал и ОН, Сталин. ЕМУ, Сталину, о ней даже не говорили.
Красина, этого инженера-электрика на службе у Ротшильдов и Манташевых, можно понять: Ленин приказал ему соблюдать максимальную конспирацию. На него ОН не в обиде: Красин давно умер. И Кецховели умер. И не эта маленькая типография решала судьбы революции. Так обстояло дело тогда.
По-другому обстоит дело сейчас. ОН не нуждается в бакинских, тифлисских, закавказских лаврах. ЕМУ нужна истинная история партии, а истинная история партии только та, которая служит интересам и авторитету ее руководства.
Если ОН не знал о существовании в Баку, рядом с ним, подпольной типографии, то как можно теперь утверждать, что ОН руководил партией в России? Если ОН руководил партией, значит, он не мог не знать о существовании типографии. Отрицать это – значит отрицать его роль как первого помощника Ленина. Неужели этого не понимает товарищ Авель Енукидзе? Не может не понимать. Зачем же выпустил брошюру, из которой явствует, что товарищ Сталин не имел никакого отношения к типографии «Нина»? Зачем это понадобилось товарищу Енукидзе? С чего вдруг потянуло на историю? И этому человеку он доверил Кремль, доверил свою жизнь! Зачем в комендатуре Кремля столько старых членов партии? Разве по такому принципу подбирают охрану? Если для охранника охрана – задача политическая, то такой охранник ненадежен: политические взгляды могут меняться. Даже личная симпатия ненадежна: от симпатии до антипатии один шаг. Охранник должен быть предан своему хозяину, как волкодав, – вот что такое настоящий охранник. Он знает только одно: за малейшую провинность, за ничтожный недосмотр он лишится жизни вместе со всеми благами и привилегиями. Вот как должна подбираться его охрана. А товарищ Енукидзе комендантом Кремля держит Петерсона, бывшего начальника поезда Троцкого, человека Троцкого. Замышляют дворцовый переворот?! Енукидзе с ними, это видно из его ничтожной брошюрки, на ней он разоблачил себя!
Эту подлую провокационную брошюру надо разнести в пух и прах. Авель, конечно, начнет отрекаться, плакаться, каяться, а кающийся человек – политически конченый человек. Существует ли он после этого физически, уже никого не интересует, кроме родных и близких. Родные и близкие переживут.
Кому поручить написать об этой брошюре? Лучше кому-нибудь из старых бакинцев. Но кто остался из старых бакинцев?
Орджоникидзе бывал в Баку, работал в Балахнинском районе на нефтяных промыслах Шамси Асадулаева – фельдшером в приемном покое, небольшом домике на окраине Романов. ОН хорошо помнит этот домик: две комнаты, в одной Серго жил, в другой вел прием. Хорошая была явочная квартира, удобная, мало ли кто ходит к фельдшеру. Проработал там Серго, наверно, с год, потом бывал в Баку наездами. Настоящий свидетель, хороший свидетель, но отговорится занятостью, к тому же друг Авеля Енукидзе, разве станет свидетельствовать против друга.
Вышинский? Законченный негодяй. Всю жизнь был меньшевиком, понятно, в меньшевиках можно дела не делать, только краснобайствовать. В 1908 году на Балаханах в Народном доме организовали суд над бакинскими зубатовцами – Шендриковыми. Кто выступил в их защиту? Вышинский. За одну ночь пять раз выступал, так упивался своим ораторским искусством, демагог, крючкотвор! Летом семнадцатого был в Москве начальником Арбатской милиции, вывесил на стенах приказ о розыске и аресте Ленина и подпись свою, дурак, поставил: «А. Вышинский». После Октябрьского переворота добился у НЕГО приема, каялся, плакал. Но ни единым словом не обмолвился о том, что делился с ним передачами в Баиловской тюрьме, где они сидели в одной камере. Понимал, с КЕМ разговаривал, понимал, что такого напоминания ОН бы ему не простил, что в обмен на эти жалкие передачи получает жизнь. В 1920 году ОН помог ему вступить в партию, в 1925-м – стать ректором Московского университета, в 1931-м – прокурором РСФСР, теперь Вышинский заместитель Генерального прокурора СССР, но свидетель по бакинским делам негодный – в партии его презирают.
Остается Киров. До революции он в Баку не бывал, но после революции пять лет был хозяином Азербайджана, имел доступ ко всем архивам, хорошо изучил историю бакинской партийной организации, человек грамотный, дотошный. Вот ему бы ответить на брошюрку Енукидзе, ему бы своим авторитетом опровергнуть ненужную партии версию и, наоборот, поддержать версию, укрепляющую авторитет партийного руководства. На словах он превозносит товарища Сталина – слов мало. Именно поэтому он и вызвал Кирова в Сочи, пусть поработает рядом, пусть покажет, каков он сейчас. Втроем они составят хорошую компанию. Например, все трое любят музыку: ОН просто любит, Жданов даже играет на рояле. Киров чуть ли не меломан, ходит в оперу, сидит не в правительственной ложе, а в партере – демократ к тому же! Всегда хотел походить на интеллигента, в молодости участвовал в студенческих любительских спектаклях, хотя учился всего лишь в Промышленном училище. Где-то он видел его юношескую фотографию, не то у Серго, не то у самого Кирова дома, жена его, Маркус, как ее, Марья Львовна, показывала: паренек в форменной тужурке с пуговицами, в форменной фуражке с кокардой, на кокарде скрещенные молоток и разводной ключ – знак Промышленного училища. Но для несведущих выглядит как гимназическая, даже студенческая форма.