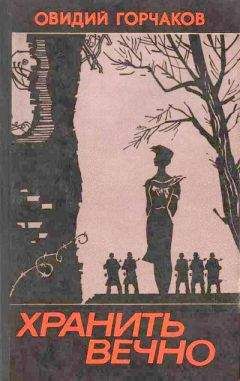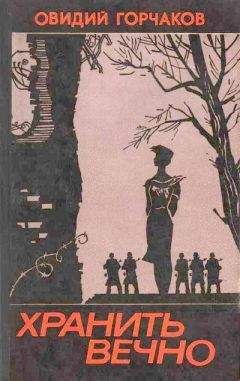К чему в своей запальчивости звал нас Щелкунов? Бороться не против немцев, а против своих, против командования отряда?! Это провокация!.. Совместимо ли это, товарищи, со званием комсомольца? Щелкунов задался целью расколоть единство наших рядов!
На многих лицах — растерянность, замешательство. Кое-кто уже бросает на Щелкунова возмущенные, враждебные взгляды. Самарин побледнел, даже похудел как-то. Борисов кусает губы. Боков сидит красный, как бурак. Виноградов пристыжено глядит на Самсонова...
— Щелкунов,— звенит голос Самсонова,— облил грязью наших партизан, изобразил их чуть ли не бандитами. Да разве могли бы мы изо дня в день бить врага, если бы все у нас было так плохо?! Да неужели ж наши люди до того бесхребетны, беззубы, беспринципны, что они допустили бы такое в отряде?.. Кто этому поверит? Никто! Это поклеп. Люди наши — идейно закаленные, бдительные, чудесные люди!..
— Правильно! — послышался уже целый хор голосов.
На секунду стало тихо. Тихо. В плохо гнущихся пальцах Гаврюхина хрустят странички.
— Здесь,— продолжал Самсонов,— посмели попытаться обсуждать действия и поступки командира. Коллектив — то же тело, у него есть голова, руки, ноги. Руки и ноги не могут судить голову. Безопасность отряда, всего тела от головы до ног — высший закон. Этот закон не подлежит партийному контролю. Я буду сурово карать любые посягательства на принцип единоначалия. Я не допущу партизанщины! Критика командира — преступление, предательство. Я являюсь здесь полпредом партии и советской власти! За свои действия я отвечаю. За ваши действия отвечаю тоже я. Анархию, митинговщину, вредную демагогию я не намерен терпеть. Не скрою, есть у нас отдельные недостатки — я сам займусь их искоренением... Щелкунову — три наряда вне очереди, строгий выговор с предупреждением. Запишите, Гаврюхин... Чем вызвана эта вредная, антисоветская по сути дела выходка Щелкунова?
Щелкунов хватал воздух побелевшими губами, с изумлением и страхом глядя на
Самсонова. А тот говорил все тише, спокойнее, убийственнее:
— Все ясно: Щелкунов защищает корыстные интересы жалкой горстки узкой группки желторотых десантников. Эти фракционеры, раскольники недовольны, видите ли, тем, что я назначаю вас, друзья мои, бывшие военнопленные и окруженцы, тех, кто прошел огонь, воду и медные трубы, на командные должности. Вот Токарев — он помнит, как нападал Щелкунов на «лаптежников» и «дезертиров», как поддакивал он Бокову, когда тот не хотел вас, дорогие товарищи, брать в отряд!.. Но я не допущу групповщины! Наша сила в единстве!..
— Правильно!
— Мы еще разберемся, что кроется за дикой выходкой Щелкунова — глупость, корысть или что похуже... Остальным — ставлю на вид. А теперь, товарищи, перейдем к нашей первоначальной повестке... Впрочем, нет... — Самсонов замолчал на секунду, окинул насмешливым, торжествующим взглядом притихших людей. — С Щелкуновым я согласен только в одном — сейчас действительно не время для всяких съездов и собраний. Вот видите, Самарин, видите, Борисов, к чему привела ваша затея? Демократию надумали тут разводить, свобода критики понадобилась! К чертовой матери плебисциты и референдумы! Довольно болтовни! Приказываю разойтись, подготовиться к операциям!
— Ну, как собрание? — спросил я Щелкунова, когда мы гурьбой возвращались в лагерь.
— Погорячился малость,— безрадостно усмехнулся, дыша как после драки, Щелкунов. — Еще в школе за это попадало. А все-таки я правду говорил! И душу отвел. А бороться за правду здесь дисциплина не позволяет. Самсонов ее, эту дисциплину, сделал кляпом во рту. Тупик! Толкнул речу — и заработал три наряда. А какую дымовую завесу он пустил, а? Антисоветскую мартышку из меня сделал? Я прямо врагом народа себя почувствовал.» Полный нокаут!.. Ты-то чего ухмыляешься?
— Нет, Володька! Это не нокаут, это только нокдаун!
Я смотрел на друга с восхищением. Здорово все-таки он выступил. А я? Молчал как рыба... А все потому, что я напрасно, с перепугу разуверился в товарищах, в их силе. Я чуть было не поверил в наше бессилие, в непреодолимость Самсонова. Пусть нокдаун, но ведь Самсонов был бронированным кулаком, вернее, кастетом. Собрание показало: не устоять ему перед нами, если мы встанем и всем миром отнимем у него этот кастет!
Такого собрания еще не было в моей жизни. На пути многих из нас станет оно до конца жизни заметной вехой.
— Так я и стану отрабатывать эти наряды,— говорил Щелкунов. — Сбегу на операцию с вами! Тс-с-с! Самсонов!.. Ауфвидерзейн!..
Он махнул рукой и побежал в лагерь.
— Кто у вас там, Гаврюхин, в списке приема в партию? — спросил, обгоняя меня, Самсонов.
Ефимов, Козлов, Баженов, Щелкунов... — прочитал по бумажке Гаврюхин.
— Выкинь Щелкунова,— перебил его Самсонов.
— Однако его рекомендуют Самарин, Полевой... — возразил Гаврюхин. — Он, конечно, на сегодняшний день погорячился...
— Нашли кандидата! Вычеркните немедленно этого анархиста! — отрезал командир. — Эх, не хватает в тебе, Гаврюхин, политической остроты! Да ведь этот бузотер сорвал партийное собрание!.. И к ордену, чувствую, я его зря представил... Не горюй, Гаврюхин, парторганизацию мы обязательно создадим — не говорильню, а здоровую парторганизацию... И поменьше внутренней политики — есть, слава богу, политика внешняя!..
— Вычеркните к черту Щелкунова, Гаврюхин! — строго сказал комиссар Перцов, спотыкаясь сзади. — Вы что, оглохли? Этого Щелкунова из комсомола надо гнать!..
— Понимаю, понимаю! Так ведь один из лучших разведчиков, в хвост ему шило... — Гаврюхин тут же выхватил карандаш и, наморщив лоб, положил листок на полевую сумку, сумку на колено...
Зачеркнув фамилию Щелкунова, Гаврюхин мелкой рысцой бросился догонять командира. Я свернул с тропинки — мне не хотелось идти за Самсоновым, за Перцовым, за Гаврюхиным.
Эх, Гаврюхин, в хвост ему шило!.. Все мы считали его честным, добрым, неробким и неглупым человеком — даже умным узкожитейским умом. Таким он, впрочем, и остался
— щепетильно честный, христиански добрый, храбрый в бою человек. «Всем взял у нас Гаврюхин,— сказал однажды о нем Серафим Жариков,— сердцем чист, духом тверд, только умом недалек. Большевику надобен особый ум, и зря его ни в анкете, ни при приеме в партию не спрашивают. Что ржете? Я лично потому и не подавал в партию, что нет у меня семи пядей во лбу».
И теперь мы увидели нового Гаврюхина. «Соскучился по партийной работе»,— сказал о нем Щелкунов, жалуясь на стремление Гаврюхина каждую мелочь согласовывать с командиром. Нет, не по самой работе соскучился он, а лишь по обрядовой ее стороне, по ритуалу. Видно, Гаврюхин, при всей его честности и преданности, никогда не был настоящим, мыслящим коммунистом — он просто не дорос до этого звания. Сейчас он сел в чужие сани и слепо помогает Самсонову выхолостить из партийной работы всю ее партийную суть. Если у него и появятся кое-какие сомнения на этот счет, этот, «солдат партии», как назвал его Самсонов, скоро успокоит себя: «Начальству видней». А партии нужны солдаты, а не солдатики с оловянными головами...
С помощью Гаврюхина Самсонов рассчитывает создать «здоровую», то есть покорную ему, выхолощенную эрзац-парторганизацию, будет точно шаман исправно соблюдать обряды и таинства, глушить всякий разговор о внутреннем состоянии отряда общими словами, и нам будет во сто раз трудней бороться с ним. Ведь для полной власти только одного не хватало Самсонову — партийной поддержки. А Гаврюхин — этот благонамеренный, слепой и околдованный добряк, который сам и мухи не обидит, даст ему видимость поддержки партии и будет бездумно шлепать уворованную у партии печать на самые кровавые решения Самсонова. Такая поддержка — и Самсонов это понял, наконец,— посильнее, понадежней поддержки «ядра» строптивых комсомольцев-десантников...
1Группа Богданова возвращалась с очередной «заготовки». Прошли те времена, когда продовольствие давалось без боя. За последние две недели чувствительно сократился мясной рацион. Свинина и баранина стали роскошью, доступной только штабным нахлебникам. Хозяйства наших поставщиков поневоле — полицейских и старост — охраняет ощерившийся дулами автоматов и пулеметов, прижатый к дорожным магистралям «новый порядок». Приходится открывать все новые и новые продовольственные базы в отдаленных районах, где еще не ступала нога партизана. Хозяйственная операция стала операцией боевой, операцией почетной.
Невдалеке от лагеря, на Хачинском шляхе, мы встретились с подрывной группой Барашкова. Минеры возвращались после трехдневной отлучки. Устало волочились за десантниками по седому песку шляха длинные косые тени. И сами они были похожи на тени в своем военном, защитного цвета, пропыленном грязном обмундировании. Угрюмые, суровые, серые лица. Три Николая — Барашков, Шорин и Сазонов, Володька Терентьев, Гаврюхин... Гаврюхину за полсотни, а его восемнадцатилетние товарищи выглядят его ровесниками. Куда пропала былая округлость щек, детский румянец под нежным пушком? В глазах — жесткий, настороженный блеск...