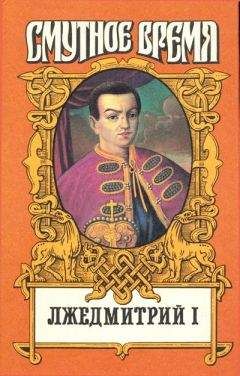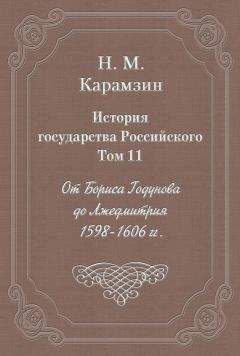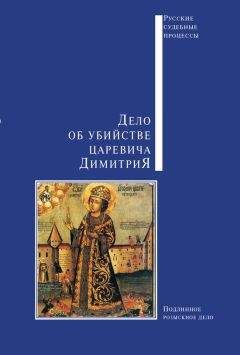За обеденным столом Голицын от Отрепьева по правую руку умостился. Григорий голову к его уху склонил, тихо говорил что-то князю. Бояре недовольны, эко вознесся Васька. Каждого зависть гложет: хоть царевич и самозванец, а все же царствовать будет, и Голицыну от него первый лакомый кусок перепадет.
О чем шепчутся Отрепьев с князем Василием? Вишь, как любезничают.
Потчует Григорий Отрепьев Голицына, вино князю Василию самолично подливает. А на второй день после того обеда Голицын с Масальским и дьяком Сутуновым в Москву отъехали.
* * *
Из Тулы Отрепьев в Серпухов перебрался и оттуда разослал во все города грамоты. Писал самозванец, чтобы присягали ему, а Федьку Годунова царем не именовали и с родней его не сносились. А еще холопы чтоб место свое знали и разбоем не промышляли…
Отныне царевич Димитрий в холопьей помощи не нуждался.
В Серпухове явились к самозваному царевичу иноземцы, служившие царю Борису Годунову. Отрепьев их капитанов — француза Маржрета и шотландца Вандемана велел принять и объявил им свое прощение, хотя они бились против него, царевича Димитрия.
Капитаны Маржрет и Вандеман сказали, что они честно служили Борису и готовы отныне служить царевичу Димитрию.
— Я верю вам, — ответил им самозванец, — и беру вас в свою службу,
* * *
На берегу Оки-реки разбили для царевича Димитрия богатый шатер. Здесь на лугу и царские кухни. Из самой Москвы прибыли повара и челядь. Отрепьев пировал с боярами и панами вельможными, отмечал победу… Шумно, весело…
Перехватили самозванцевы люди английского посла. Англичанин уезжал в Лондон и вез с собой письмо покойного царя Бориса. От смуты на Руси посол устал и был перепуган. Чутье опытного дипломата подсказывало ему, что смуте не видно конца.
Грамоту Годунова у «аглицкого» посла отобрали, а самого привезли к Лжедимитрию. Отрепьев англичанина принял с честью, пил за здоровье королевы «аглицкой», в дружбе своей заверял и, отпуская посла в Лондон, дал с ним письмо, в каком обещал не чинить «аглицким» купцам помех, допускать их к торговле по всей русской земле на тех условиях, какие даны им отцом его, Иваном Васильевичем Грозным.
* * *
Москва ждала царевича.
В Архангельском соборе служил обедню патриарх Иов. Басил дьякон, на клиросах слаженно пел хор, тоненько тянул патриарх.
Постарел Иов, осунулся. Тяжко перенес смерть Бориса и свержение Федора. Кончилась династия Годуновых. Совсем мало поцарствовала и мало что после себя оставила. Не думал Иов, что так стремительно закончит свой бег годуновская линия.
Артамошку Акинфиева в соборе толпа со всех сторон зажала. Тесно, душно здесь и до головокружения пахнет ладаном. Артамошка один, без Агриппины. Намедни ушибла она ногу, ходить трудно. Артамон Агриппиной доволен, живут они хоть и в нужде, а ладно.
Москва с того майского дня, когда прогнали с царства Федора, ругала Годуновых. Рассказывали, что царица Марья в окно годуновского дома стрельцов всякими словами поносила, корила за измену, а стрельцы ей в отместку все стекольца камнями повысадили. Не подоспей князь Шуйский, толпа расправилась бы с Годуновыми.
Народ у годуновских хором собирался, проклинал Бориса, винил его за голодные и моровые лета, а паче всего, что он с сыном обманом царствовали. Царевича же Димитрия на все лады расхваливали, но у Артамона Акинфиева о Димитрии свое суждение. Артамошкина спина изведала его справедливость.
Тут Артамошкины мысли нарушил шум в соборе. Задвигался люд, расступился. Артамошка шею вытянул, увидел: вошли в собор несколько человек, по виду бояре. Кто-то из толпы сказал:
— Князь Голицын! А с ним боярин Масальский.
— А то, никак, дьяк?
— И верно, дьяк Сутунов. Глянь, письмо разворачивает. А стрельцы к чему?
Князь Голицын уже у амвона, дьяка наперед пропустил. Тот свиток к очам поднес, откашлялся.
Замолк патриарх, сбился и замолчал хор. Невиданное доселе, чтоб службу церковную нарушить кто посмел! Патриарх и разгневаться не успел, как дьяк Сутунов объявил:
— Царь всея Руси Димитрий Иванович повелел за все грехи твои, Иов…
И дьяк не торопясь принялся перечислять вины патриарха: и что Борисову руку держал и на царство посадил, и что царевича Димитрия проклинал и самозванцем Гришкой Отрепьевым нарек, и что Федору присягать принуждал. За то его, патриарха Иова, царевич Димитрий лишает высокого сана и отправляет монахом в монастырь.
Не изменился Иов в лице, ждал такой кары. Только и выдохнул:
— Проклинаю!
— Ах, едрен-корень! — ахнул Артамон.
Иова стрельцы из собора вывели, усадили в возок, повезли в дальний монастырь.
Люд доволен, поделом патриарху! Не по его ли настоянию приставы народ силком сгоняли к Новодевичьему монастырю, заставляли на коленях ползать, просить Бориса на царство? Нет, такое не забыто, хоть и семь лет с той поры минуло.
* * *
В Переяславле изловили ненавистного боярина Семена Никитича Годунова. Били палками, душили и уже мертвого кинули под забором.
Из Москвы на худых крестьянских телегах повезли в ссылку годуновскую родню — Сабуровых и Вельяминовых.
* * *
День ночи уступил, спала Москва, угомонилась. Месяц на небо выполз, светил тускло.
Из ворот голицынского подворья вышли кучно. Впереди сам хозяин, князь Василий Васильевич, за ним не отставали Масальский с Молчановым. Шли быстро, держались середины улицы, чтоб меньше собак дразнить. — Голицын посохом дорогу щупал, говорил тихо:
— Царевич сказывал, не желает в Москву, покуда Федор жив. После его смерти сяду на царство с душой спокойной.
Масальский пробасил:
— Долго ждать смерти Федькиной.
— Эко ума у тебя, — толкнул Масальского Молчанов. — Мы-то на что? Аль забыл уговор?
Голицын поморщился недовольно:
— Без сообразительности ты, Масальский. — Зевнул. — Царевну Ксению не трогать, однако. Тебе, Масальский, царевна препоручается. Коль выскочит из своей опочиваленки, ты ее назад втолкни. Да чтоб без крика.
— А как с царицей Марьей быть? — спросил Масальский. — Она, чать, скуратовского рода. Малюта отцу царевича верой-правдой служил.
— Тому давно время минуло, когда Марья Скуратовой именовалась. О том не поминай. Годунова она телом и душой, и с ней как с женой Борискиной велено поступить. — Голицын озлился. — И чего попусту спрашивать, Масальский? Сам, поди, ведаешь, что царевичу угодно!
Вот и ворота годуновские. Остановились. Князь Василий стукнул кольцом в калитке. Голос за забором сказал:
— Погоди чуток!
Калитка чуть приоткрылась, Молчанов шикнул:
— Аль не признаешь, Шерефедин?
— Темно, не догляжу. Никак, ты, князь Василий Васильевич.
— Впускай, Шерефедин, — нетерпеливо махнул рукой Голицын и первым прошел во двор, направился к хоромам.
Следом за князем двинулся Шерефединов со стрельцами и Масальский с Молчановым.
Стрельцов трое, один другого крепче. Голицын покосился на них, крякнул одобрительно. Хороших помощников подобрал сотник. Спросил Шерефединова:
— Им сказывал?
Тот усмехнулся.
— Знают. Давно этого ждут. Им по рублю посулено. — Повернулся к стрельцам: — Порадеем, детушки, во имя царевича Димитрия.
Пока стрельцы с запором возились, Голицын наставлял:
— Ты, Масальский, не забыл, царевну стереги. Тебе, Молчанов: бери стрельца и царицу Марью кончай, а мы с Шерефедином за Федора примемся. Ну, с Богом! — перекрестился.
И скопом через сени в хоромы. Шерефединов зажег свечу, подал Голицыну. Разошлись. У двери царской опочивальни задержались на мгновение и разом вломились.
Не спал Федор. Увидел палачей, вскочил. Кинулись к нему стрельцы, но Федор извернулся, оттолкнул. На помощь стрельцам Шерефединов кинулся. Федор его ногой поддел. Взвыл тот, скрючился от боли.
Голицын сам к стене жмется, крестится.
Повалили стрельцы Федора, а Шерефединов озверел, горло перехватил. Не руки, клещи кузнечные. Хрипит Федор, сучит ногами по полу.
Князь Василий подстегивал Шерефединова:
— Души его!
Затих Федор. Шерефединова насилу стрельцы от мертвого оттащили. Хоромы покинули разгоряченными. Князь Василий трясется, что в ознобе. Во дворе Масальский с Молчановым поджидают.
— Царица Марья и не пикнула, — сказал довольный Молчанов. — Подушкой накрыли.
Стрелец спросил у Шерефединова:
— Когда обещанное отдашь-то?
Вытащил Голицын кошель, отсыпал стрельцам серебра. Приказал:
— Мертвецов заверните во что ни есть. Завтра Бориску из Архангельского собора выкопаем и всех их купно на Сретенку отволокем. В Варсонофьевском монастыре зароем. — Повернулся к Масальскому: — Ксения не чуяла?
— Спит. Ее-то какая судьба ждет?