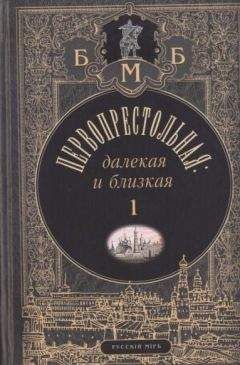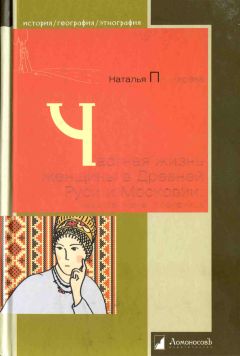Вставать приходится рано, в десятом часу, и с утра одеваться хоть и просто, а по-модному, потому что у больших модисток встречается целое общество щеголих, бывают и мужчины, а в Гостином ряду настоящее гулянье. Дома причёсывает простая босая девка Глашка, и перечёсываться приходится в заведении у Бергуана, который по утрам на дом не приходит, а торгует помадой для плешивых, нитяными париками, салом и пудрой, накладками для дамских головок, гулявной водой, амбровыми яблоками, лоделаваном, лодеколоном и всякими притираньями и румянами: кошенилью, огуречным молоком, отваром усопа, зорной и мятной водой. Есть у него и пудермантели, и щипцы, и ложные букли, и расписные веера и презабавные мушки, от мелкой в соринку — до большой, в монету, а вырезные — лисичкой, петушком, жучком, даже каретой цугом и с гайдуками, чтобы налеплять их на щечку (согласна!), под носом (разлука!), у правого глаза (тиран!), на подбородок (люблю, да не вижу!). Много всяких значений — и все их знает модный волосочёс.
Чтобы ехать к нему, Настинька, в сопровождении пожилой мамки, сначала заезжает за тётенькой, а дальше уже в её карете. Приходится думать о том, чтобы не замарать в великой московской грязи красный каблучок башмаков; для этого с крыльца на дощатый тротуар и до самой каретной подножки девка Глашка настилает половик, а Дунька смотрит, подобрана ли роба, не волочится ли хвост. Батюшкина карета проста, без золота и без форейторов; у тётеньки выезд расписной, на дверцах изображены пасторали, стёкла гранёные, ободки с золотом, позади гайдук на высоком сиденье, впереди едет выносной с ременным кнутом.
Когда едешь с тётенькой Параскевой Михайловной, особенно на бал, люди смотрят с удивлением и завистью. Тётенька сидит неподвижно, нагнувшись, чтобы на смять о крышу свою высокую причёску в виде висячего сада а ля Семирамид. Тётенька любит вышитые робы с глазетовой юбкой и русскими рукавчиками позади, а фижмы так велики, что и Настиньку прикрывают, и высовываются в отверстное каретное окно. С фижмами в карете вдвоём, конечно, не уместиться, но Настинькино девичье платье всегда проще: летом — сюртучок из тарлатана[194], зимой к нему — бархатная шуба с золотыми петлицами и ангорской муфтой длинной шерсти. Причёсываться в последнее время ей как молодой тётенька указала с пострижкой шейного волоса, как для гильотины, — очень модно и заведено французскими беглыми аристократами.
Лошади месят грязь через пол-Москвы, и только к полудню удаётся добраться до знаменитой модистки мамзель Виль, которая, как завидит богатых заказчиц, — бросает всех и пренесносно лебезит. И вот тут поистине разбегаются глаза и разум темнеет. Время такое, что от тяжёлых роб стали переходить к платьям лёгким и воздушным. Конечно, женщина в годах, как тётенька, хоть и великая модница, не оденется Дианой, Галатеей или весталкой, но всё же и ей наскучили польские и немецкие фалбалы[195] и палатины, и она завела себе, на случаи менее парадные, де-буффант[196] волосяной материи вместо обычных фижм. Однако при парадном приёме Параскева Михайловна выплывает всегда в круглом молдаване с хвостом из бархата, штофа, атласа либо люстрина, гродетура, гроденапля. На малый выезд, в Клуб и Воксал, — сюртучок с фраком, воротничок узенький и высокий, вроде туркеза, рукавички расшнурованы цветными ленточками, лацканы на пуговках, юпка из линобатиста, а шляпа непременно колоколом. Все эти наряды шьёт себе теперь и Настинька, потому что не во всяком доме появишься, как смелые щеголихи, Авророй и Омфалой[197], в тонкой шёлковой рубашке хитоном, с сандальями на ногах и причёской а ля Титюс[198]! Да этого и папенька не позволят, пока не стала мужней женой и от семьи отрезанным ломтем.
В мастерской мамзель Виль глаза разбегаются ещё больше, чем в самых лучших модных лавках «О тампль де гу[199]» и «Мюзе де нувоте[200]». Самое замечательное у неё — готовые на все вкусы шельмовки, шубки без рукавов, из всякого цвета и всякой добротности материй, и глазетовая, и аглинского сукна, и стриженого меха, и с вышивкой, и с кружевом, и с лентами, и с красной оторочкой. На шельмовках вся Москва помешалась! А как начнёт мамзель Виль показывать распашные кур-форме, да фурро-форме, да подкольные кафтанчики, да чепцы всех сортов, величин и форм, всех цветов и материй, да рожки, да сороки, да а ля греки, да «королевино вставанье», да башмачки-стерлядки или же улиточкой, — нет сил оторвать глаза, и хочется забрать всё и целый день примеривать дома. В платье, ей заказанное, мамзель Виль советует непременно вставить для пышности проклеенное полотно, прозванное лякриард, потому что оно не только держит материю несмятой, а и само шумит и привлекает всеобщее внимание. Сейчас без этого лякриарда хоть и в общество не показывайся, никто замечать не станет; а вот на балах — не годится, очень размокает, если вспотеешь в модном танце — вальсоне.
От мамзель Виль приходится ехать к другой знаменитой модистке, к мадам Кампиони, которой заказано платье самое поразительное, последний парижский крик, хотя по виду простенькое неглиже[201]. Вы представьте себе белый с пунцовым карако а ля пейзан: коротенький пиеро из белого лино а жур, без подкладки, с маленькими клиньями и белыми флёровыми рукавами, и всё сие обшито пунцовою лентою; юпка такая же, как пиеро, конечно, без фижм, но на бёдрах с пышностью; на шее белый флёровый, пышный, однако полуоткрытой платок, как бы говорящий: «Скрываю прелесть, но не жесток»; чепец белого лино гоффре с маленькими круглыми складками, убранный пунцовою ж лентою, к платью подобранный в полном совершенстве; всенепременно носить при этом большие круглые золотые подвески. Говорят, что в Париже стало недостаточно золота, потому что все щеголихи носят его на себе в виде блонд, ожерелий с большими сердцами, серёг, бахромы, колец и обручей, даже и на ногах. Но приятнейшее в сём модном неглиже — это пунцовые башмачки, при ходьбе и в танце мелькающие огоньками и обжигающие и глаз, и чувствительное сердце. Помилуй, сколь желаннее цвет пунцовый, нежели жёлтый с черным а ля контрреволюция, который тщились ввести французы, однако у нас не понравился! Нужно прибавить, что неглиже а ля пейзан требует особой причёски а ля кавальер, с весьма толстым шиньоном и мужескими локонами.
От модисток Настинька с тётенькой спешат домой, где ждут купцы с бельевыми тканями: всё бельё шьётся дома, но из холстов покупных, а свои, деревенские, идут только на дворовых. Опытные девки с утра до ночи кроят и шьют для Настенькиного приданого епанчи, исподницы, камзолы спальные, юпки и юпочки, платки на покрыванье, наволочки на одну и на две особы, на оконишные подушки, на стулья и канапеи, да занавесы постельные и подъёмные. Тётенька сама выдаёт нитки и иголки, кричит на девок, наказывает за плохой шов. И не только о белье думает, а во всё входит самолично: аптекарю приказала доставить всяких трав и снадобий, необходимых для домашних притираний: и травы нюфаровой, и воды бобовой, и лимонного соку, и дикой цикории, и уксусу, и козьего сала, и лаудану, и росного ладана, мужжавельных ягод, фиольного корню, гумми бенжуанской и даже тёртого хрусталю.
А назавтра с утра ехать смотреть мебели, иногда даже с папенькой, который по этой части сам большой любитель и знаток: сразу отличит, которая мебель по модели Давида, которая работы Жакобовой, а которая русских мастеров — Воронихина, Шибанова, Тропинина. Всего же приятнее бывать с папенькой на гулянье, где все ему кланяются, он же первым кланяется только большим вельможам и старым госпожам. И сколь парадна и пышна московская знать! Сколь ненаглядно одета бывает приезжая из Санкт-Петербурга графиня Разумовская, та самая, которая прославилась убранством головы: ей великий Леонар, из Версаля бежавший, сделал причёску из красных бархатных штанов, случайно на глаза попавших, — и все щеголихи на придворном бале позеленели от зависти! Из мужчин первый щёголь — старик Нарышкин, знаменитый своим кафтаном: весь кафтан шит серебром, а на спине вышито целое дерево, и ветки, сучки, листья весёлым блеском разбегаются по плечам и рукавам. Пожилые мужчины во французских кафтанах, в белом жабо, в чулках и башмаках, в париках пудреных. Князь Лобанов-Ростовский каждый день с новой тростью — у него их не меньше сотни, иные с драгоценными камнями, и, в отличие от других, князь носит бархатные сапоги. Молодежь одета по-модному и в своих волосах[202], иные выходят на гулянье во фраках с узкими фалдами, в жилетах розового атласа, в огромных галстуках, закрывающих подбородок, четырежды обмотанных вокруг шеи, в широких сапогах с кистями. Но на молодых людей девушке заглядываться не пристало.
День за днём — суета и маета, отдохнуть некогда. До свадьбы ещё далеко, девичье личико бледнеет, и рада Настинька, когда вечером, ежели тётенька не везёт на бал, с облегчением снимает с худенького тела ужасного тирана корпа, железными тисками сковывающего ей бока и грудь; зато талия у неё совсем в рюмочку — зависть подруг. И кажется: вот проходи ещё час-два в мучительном корсете — сердечко станет, дыханье прекратится, и случится, как бывает с тётенькой, столь модный ныне обморок коловратности…