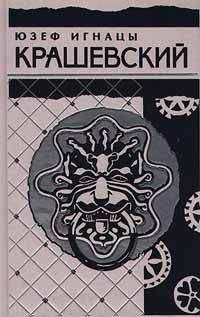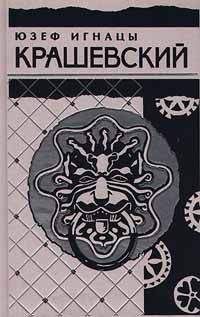– опасно!
Была осень. Приближался тот день, на который возлагали великие надежды. Все готовились идти на границы к Поморью, в Гонсаву, где был назначен съезд.
Святополк и другие поняли выбор места как угрозу. Лешек шёл с частью своего войска, а другая, как говорили, должна была быть в готовности, и если бы поморский князь не покорился по доброй воле, легко бы ему было и Накло отобрать, и преследовать дальше.
Ничто, однако, не предвещало, чтобы великий съезд князей и духовных лиц разошёлся безрезультатно.
Лешек имел с собой и за собой не один собственный авторитет, не только всё духовенство, но Генриха Силезского, Конрада и Тонконогого. В Кракове собирались весело, хотя весьма встревоженная княгиня плакала, заклинала и просила мужа не ехать.
Тревожимый этими страхами, Лешек должен был вызвать епископа Иво, дабы слабой женщине влил мужество. Гжимислава поддалась поучениям духовного, змолчала, не говорила больше ничего, но из её глаз текли слёзы, а немые уста молчанием ещё умоляли – останься.
Лешек попеременно одного дня был готов её послушать, то, стыдясь малодушия, спешил с отъездом из своей столицы.
Вперёд уже выехали таборы епископа и князя, дабы в маленькой деревеньке приготовиться к приёму множества панов. Ставили сараи, строили бани, без коих в то время никто не обходился, а князья, воспитанные матерью-русинкой, были к ним привычные. Из княжеских и духовных имений свозили сено, складывали стога, ссыпали злаковые, муку и крупы для многочисленной челяди, сгоняли свиней, приготовленных для бойни.
Каждый из пастырей вёл с собой, кроме духовного двора, своё рыцарство, урядников, челядь, вёз палатки. На месте ничего найтись не могло, поэтому всё нужно было тащить за собой.
Епископ Иво должен был ехать вместе с князем, которого сопровождал прекрасный и многочисленный двор. Несмотря на старания Марка Воеводы, Мшщуй остался при нём, и был также назначен ехать с паном.
За несколько дней перед отъездом князя княгиня его так же, как других, позвола к себе, одарила и упросила, чтобы день и ночь бдили за паном. Это женское опасения серьёзные люди понимали и разделяли его, хотя никто не имел ни малейшей тревоги, ии подозрения. При такой силе, в такой громаде что же могло случиться с Лешеком?
Другим таким испуганным был несчастный Хебда, который заступал епископу дорогу, бросался перед ним на колени, и после безумного видения говорил, что видел князя во сне и наяву нагого, покрытого ранами.
Но кто мог обратить внимания на слова безумного? Бранили его и прогоняли, а Хебда не переставал твердить своё пророчество.
Опасались, как бы он не забежал дорогу Лешеку, не испугал больше княгини, потому что неустанно, кого встречал, предостерегал об опасности; поэтому была речь о том, чтобы запереть его в госпитале Св. Духа на некоторое время, пока бы не двинулись из Кракова.
Испытывающий к нему великое сострадание епископ, который, хоть оснащал костёлы и монастыри, но около дома часто ходил один пешком, за несколько дней перед назначенным отъездом, как обычно, встретил Хебду на своей дороге в костёл Св. Троицы.
Там он любил молиться, считая это дело за самое милое.
– Отец мой святой, милостивый отец, – воскликнул нищий, преследуя его, – не отпускайте пана отсюда, потому что я вижу кровь… кровь и мечи…
Иво остановился.
– Упрямый человече, – сказал он сурово, – разве не знаешь, что без воли Господа волос с головы человек упасть не может? Твоему безумию сочувствую, а пророчествам не верю, но других будешь тревожить… хочешь, чтобы я был вынужден приказать тебя запереть?
Была это самая страшная угроза, какую мог учинить Хебде благочестивый епископ. Не боялся он ни голода, ни холода, но одно напоминание о неволе приводила его в ярость. Он стоял и дрожал.
– Милосердный отче, – крикнул он, поднимая вверх руки, – вы не сделаете этого, потому что вам жаль бедного кающегося. Бросить меня окованного в темноту – это смерть!
– Значит, молчи! – сказал епископ. – Я приказываю!
И крест над ним сделал.
Нищий, словно чудом поражённый, закрыл уста, но кровавые глаза поднял к небу и умолял, чтобы их развязали. Он шёл за епископом и стонал.
– Не развяжу тебе уст, нет, – говорил Иво, – иди, молись за грехи, а у людей необходимого мужества не отнимай.
Проводив епископа в костёл, Хебда не смел войти в него за ним. Лёг крестом у порога…
С этого дня голоса из его уст не слышали, бегал только испуганный, показывая что-то руками, ударяя себя в грудь и шею, то на замок, то к северу пальцы вытягивая.
Пришёл наконец день назначенного отъезда. С утра ещё княгиня, прибежав к мужу, напрасно пробовала его остановить, потом сама сопровождать его настаивала, а когда и на это Лешек согласиться не мог, безутешная в плаче, в тревоге, окружённая своими женщинами, она продержалась вплоть до отъезда. Когда вошёл князь с ней попрощаться, она бросилась перед ним на землю и слуги должны были её поднимать, потому что встать сил не имела.
– Моя милая и дражайшая, – сказал он, обнимая заплаканную и ослабевшую, – а если бы даже в действительности, от чего упаси Боже, пришлось мне погибнуть! Без воли Всевышнего этого произойти не может, нужно ей сдаться. Если моя кровь должна пролиться, дабы принести отвращение к человекоубийству и на века от него воздержать…
Не дала ему княгиня говорить дальше. Лешек, хоть временно загрустивший от этой жалости, был в хорошем настроении, путешествие улыбалось ему – золотой мир был его плодом.
Епископ Иво подошёл утешить княгиню и заверить, что над паном все будут бдить, благословил и помолился; несмотря на это, когда собрались расходиться, потерявшую сознание княгиню слуги вынесли на кровать.
Лешек уже в кольчуге, со шлемом на голове, взял ещё маленького Болька на руки и прижал его к груди, взял Саломею, которая завидуя брату, тянула за одежду, и поцеловал обоих.
Тоскливо ему было расставаться со своим спокойным двором, женой и детьми, но тревоги не имел никакой.
По дороге был Вроцлав, откуда князь должен был забрать с собой уже готового Генриха и епископа Вроцлавского, хотя тот, однажды уже поспорив с Иво Одроважем о первенстве иерархии, где Иво уступил, не очень стремился на съезд.
Во Вроцлаве ожидали Лешека с многочисленным двором…
Бородатый выехал ему навстречу с добрым сердцем и в достаточно хорошем настроении. Не изменило его даже то, что заметил в свите Мшщуя, против которого, хоть его невиновность была явной, всегда зуб имели за ненависть к немцам. Он больше мог иметь предубеждения