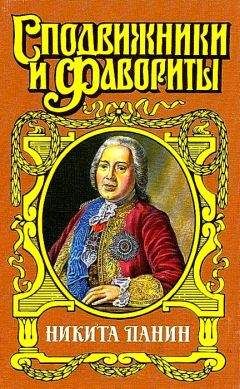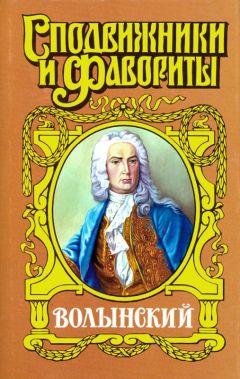Мария Родионовна услышала все городские новости — также никто не заразился в воспитательном доме, куда свозили всех сироток — а их во время чумы оказалось в Москве великое множество. Там тоже поставили крепкие запоры, расставили сторожей. Никто не мог войти, никто не мог выйти. Уксус был потребляем в неимоверных количествах, хоть и знала Мария Родионовна, что не очень-то помогает кислая эта вода от беспощадной болезни.
Она совсем уже было собралась уходить, как услышала невдалеке от дольгауза страшный шум.
Крики, шум толпы дополнялся мрачным звоном колокола — набат сзывал москвичей.
Мария Родионовна вышла за ворота и увидела, как мимо пробегают люди — бедные простые работники, мастеровые, торговцы, крепостные, живущие на оброке в столице, нищие, женщины, дети, но все больше сумрачные мужики с насупленными бровями и кольями в руках.
— Что это? — остановила она молодую девушку в бедной старенькой кофте и рваной юбке.
— Боголюбскую Богоматерь отымают у народа, — крикнула та на бегу.
Мария Родионовна знала об этой чудотворной иконе Боголюбской Богоматери. Одна надежда осталась у простого люда Москвы — на спасительницу Пресвятую Богоматерь. Эта икона стояла на простой дубовой подставке у Варварских ворот, и каждый богомолец прикладывался к святому лику. Доктора стали говорить, что целование иконы разносит заразу, что ее надо убрать от Варварских ворот, где каждый мог подойти к лику спасительницы и приложиться. Митрополит Амвросий прислушался к советам докторов и приказал перенести икону от Варварских ворот в церковь…
И вот теперь на защиту заступницы поднялся весь беднейший люд.
Там же, у Варварских ворот, стояли и ящики, куда собирались народные деньги в честь этой иконы.
Амвросий пока еще не перенес святыню, но деньги велел опечатать и отвезти в воспитательный дом для сирот, где он состоял опекуном.
Услышав об этом, народ возмутился против Амвросия и побежал к Варварским воротам, вооружась, чем попало.
Люди бежали и бежали мимо, и ноги сами понесли Марию Родионовну вместе с толпой. Ее тоже задела за живое мысль об иконе, о святом лике Богородицы. «А я ж дочь богородицына, — смутно думалось ей, — и как же не встану со всеми на защиту святой нашей Матери?»
Дворовые, приехавшие вместе с ней, только руками всплеснули, когда увидели бегущую вместе с толпой Марию Родионовну, кричали ей, бросились было вслед, да одумались и вернулись дожидаться госпожи в самый дольгауз, благо тут топились печи, было тепло и можно было и отдохнуть, и узнать все городские новости.
А Мария Родионовна бежала вместе с толпой, уже ничего не понимая, захваченная тем же стремлением, что и все бегущие — спасти, сохранить лик, сохранить икону, столько помогавшую простому люду старой столицы.
Переулками, кривыми улочками бежала толпа, и Мария Родионовна бежала вместе с ней.
Выскочив к Варварским воротам, она увидела, что перед иконой волнуется море людей, словно волнами проносились стремления народа, никто не стоял на месте, всем хотелось протиснуться в первые ряды. А там происходило нечто страшное.
Работая локтями и руками, Мария Родионовна пробилась почти к самым Варварским воротам. Четыре служки в черных рясах и черных скуфейках пытались вытащить из толпы ящики с медными копейками. На них налетели здоровые крепкие мужики, нищие, оборванные простоволосые бабы, и закрутилась над кучей тел кутерьма. Толпа выла и кричала, и Мария Родионовна, пробившись к самому людному месту, только увидела, как полетели в стороны черные скуфейки, как вспорхнули над толпой клочья монашеского одеяния, как исчезли под грудой тел и голов тела бедных служек, в ужасе воздевавших руки к небу.
— Стойте, — кричала она вне себя, — остановитесь, опомнитесь, что вы!
Но никто не слышал ее надсадного крика, взбешенная толпа расправилась со служками и отхлынула от страшного места.
Возле иконы, возле опечатанных ящиков с медной мелочью остались лишь кровавые останки тех, кто еще так недавно, всего минуту назад, были людьми.
— Люди, — кричала Мария Родионовна, — остановитесь, побойтесь Бога, побойтесь Матерь нашу, Пресвятую Богородицу, успокойтесь, остыньте, простите грех их, простите, успокойтесь…
Она кричала и кричала, голос ее уже охрип, но никто не слушал ее. Вопили все, а медный гул колоколов все плыл и плыл над городом.
— Айда к Амвросию! — зычно крикнул кто-то. — Пусть ответит перед Богом и нами, почто взял казну матушки Богородицы…
И толпа понеслась от Варварских ворот к Чудову монастырю, где, по слухам, успел спрятаться Амвросий.
Подхваченная толпой, неслась вместе со всеми и Мария Родионовна.
Толпа растеклась по всему подворью Кремля и кинулась к Чудову монастырю. Монахи попрятались, едва кто-нибудь из них показывался, как толпа с воплем кидалась на него и разрывала в куски.
Все, что попадалось под руку разнузданной черни, было разбито и изломано. Мария Родионовна пыталась остановить народ, пыталась кричать, но голос уже изменил ей, и она только хрипела. Ее отшвыривали в сторону, и она больно ударялась об угол алтаря или острый угол монастырской галереи. Амвросия в Чудовом не оказалось, он побежал спасаться в Донской монастырь, но толпа настигла его и здесь.
Плыл и плыл над Москвой мрачный тяжелый медный набат, а толпа, разъяренная и почувствовавшая запах крови, еще больше разжигалась и бушевала.
Вместе со всеми бежала и Мария Родионовна, давно в лохмотьях, едва прикрывавших тело, почти не отличаясь от взбешенных, с пеной на губах, простых баб, бегущих вслед за мужиками, мужьями и братьями. Некому было остановить людей, вся полиция попряталась от страха, и народ буйствовал, найдя, казалось бы, причину страшной муки последних двух лет мора, гибели, страдания, голода.
В Донском монастыре толпа нашла, наконец, Амвросия, седенького маленького старичка в ветхой черной рясе с большим крестом на груди.
— Миряне, — воздел он над толпой крест, — остановитесь, не ведаете, что творите…
Но ему не дали договорить. Кинулись на него мужики, Амвросий вырвался, забежал в царские врата, дрожащими руками запер их, но толпа нажала, и огромные золоченые двери подались, упали под мощным напором.
Мария Родионовна видела только, как склонились над несчастным Амвросием головы, как протащили его по церкви, выволокли на паперть, бросили среди церковного двора и принялись охаживать кольями.
Два часа месили то, что осталось от московского митрополита.
Мария Родионовна сбегала в ближайший полицейский участок, привела с десяток дюжих полицейских, но и они ничего не смогли поделать с разъяренными людьми…
Словно насытившись видом крови, толпа, как будто ужаснувшись содеянному, тихо разбрелась по домам.
Мария Родионовна встала у того, что осталось от митрополита, и тихо надсаженным хриплым голосом читала молитвы.
— Сжалься, Пресвятая Матерь Богородица, — шептала она горестно, — не губи их, не ведали, что творят…
Потом она встала и пошла к дольгаузу. Стелился смрадный дым, зловоние от неубранных трупов носилось в воздухе. Валялись по сторонам улиц мертвые тела, никому не нужные, забытые, а над городом все плыл и плыл медный набатный звон колоколов, словно отсчитывающий последние часы древней столицы…
В дольгаузе Мария Родионовна переоделась, велела сжечь платье, от которого остались одни лохмотья, и вечерней порой, когда уже село солнце и роса омочила траву, и закапали первые слезинки дождя, вернулась в Петровское.
— Куда ты пропала? — напустился на нее Петр Иванович, давно вернувшийся с охоты и тоскливо бродящий по просторным комнатам Петровского имения.
— Прогулялась, — коротко ответила Мария Родионовна.
Тщательнее обычного протерла тело кислой водой, мыла и словно бы не могла отмыть руки.
Графиня никогда и никому не рассказывала, что видела она в тот день, 15 сентября 1772 года в Москве. Нельзя было рассказать это, никто не знал, что много лет лежало тяжестью на душе у Марии Родионовны…
Долго потом, сама с собой разговаривая, удивлялась Мария Родионовна, что толкнуло ее побежать вслед за толпой. Только слова о Богородице и всегдашняя готовность служить ей всеми силами могли подвигнуть ее на это. Могли в толпе и смять, и разорвать, и отшвырнуть с дороги, однако же целая и невредимая добежала со всеми до Донского монастыря, стала невольной свидетельницей убийства митрополита Амвросия, не пострадала нисколько, только платье оказалось разорванным и искромсанным. Нет, она ничего не боялась в тот момент и, пожалуй, говорила себе, случись все снова, снова побежала бы и снова уговаривала толпу, и снова кидалась на спасение седенького маленького старичка митрополита, но Бог судил ему, видно, такие муки, такую страшную смерть, и она ничего не могла сделать, ничем не могла помочь ему. Впервые так близко видела она страшный русский бунт, «бессмысленный и беспощадный», впервые столкнулась со слепой разрушительной силой, когда уже ничего человеческого не остается в человеке, когда он глух ко всем разумным доводам, и молча томилась тоской — сколько же в тебе, человек, еще звериного, как ты еще несовершенен и какой тонкий слой образованности и обузданности лежит на темном невежественном тяжелом слое бедноты…