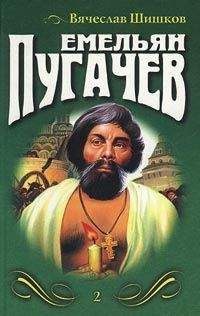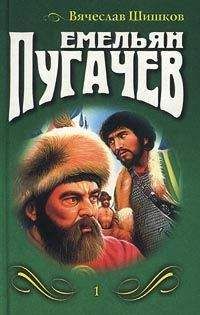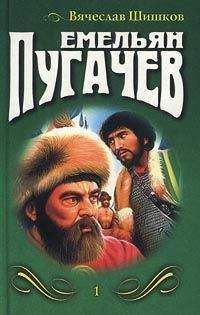Жадно вслушиваясь в слова офицера, Пугачёв вдруг остановился, щеки его затряслись, глаза внимательно поглядели на Горбатова. Пристукнув себя в грудь, он громко произнес:
– Мила-а-й! Благодарствую. И как на духу тебе. Намеренья-то мои, это верно, горазд большущие, а силенки-то надежной в моих руках нетути…
Нетути! Вот и казнюсь теперь, и казнюсь. Ночи не сплю. Иной час слезами горючими обливаюсь. Только таюсь от всех. И ты, друг мой, никому не сказывай об эфтом… А за те слова твои золотые, что народ, мол, вспомянет меня по-доброму, спасибо тебе, сынок… Да ведь и мне так думается: ежели и загину я, на мое место еще кто-да-нибудь вспрянет, а правое дело завсегда наверх всплывет.
Пугачёв отсморкнулся, вынул платок, утер глаза и нос, подошел к Горбатову, положил ему руку на плечо, тихо заговорил:
– Верно, что когда дела зачинал, помыслы мои были коротенькие, как воробьиный скок… Эх, думал я, дам взбучку старшинам яицкого войска за их злодейства лютые, тряхну начальство, да и прочь с казацкой голытьбой куда глаза глядят. А тут вижу – не-е-ет… Вижу – день ото дня гуще дело-то выходит, крепости нам сдаются, людишки ко мне валом валят. И уж чтоб уйти, чтоб взад пятки сыграть, у меня мысли чезнули. И подумал я: будь, что будет! И покатился я, как снежный ком, все больше да больше стал облипать народом. А тут – пых-трах, без малого весь Урал-гора, все Поволжье загорелось, в Сибирь гулы пошли, у царицы Катьки сарафаны затряслись! Во как… Вот тут-то, чуешь, когда многие тысячи народу-то ко мне приклонились, уж не сереньким воробушком, а сизым орлом я восчувствовал себя… Орлом! У меня тут, чуешь, гусли-мысли-то и заработали. А ну, царь мужицкий, не подгадь! И уж замысел у меня встал, как заноза в сердце, шибко облестительный: ударить на Москву, поднять всю Русь, а как придут из Туретчины с войны царицыны войска, сказать им само громко: «Супротив кого идёте? Я вам всю землю, все реки, все леса дарую, владейте безданно, беспошлинно, будьте отныне вольны. На-те вам царство, на-те государство, давайте устраивать жизнь-судьбу как краше». Не враг я народу, а кровный друг! – Пугачёв перевел дух и спросил:
– Ну, как думаешь, полковник?..
– Я не полковник, а майор, ваше величество, – перебил его Горбатов.
– Будь отныне полковником моим. Ну, как думаешь, господин полковник, что сказало бы в ответ мне войско?
– Войско перешло бы на вашу сторону, пожалуй. Не полностью, может быть, а перешло бы.
– Правда твоя, генерал. Будь отныне моим генералом. Люб ты мне. Лицо у тебя прямое, не лукавое. Я тебя и в фельдмаршалы вскорости произвел бы, да чую, бросишь ты меня… И все вы меня бросите, предадите… – с особым надрывом, тихо сказал Пугачёв и опустил на грудь голову.
– Избави бог, государь! Я до конца дней с вами! – прокричал Горбатов.
– Знаю. А все ж таки, чую, и ты спокинешь меня, убоишься петли-то…
– Пугачёв сдвинул брови, вскинул руку вверх и снова закричал:
– А вот я не боюсь, не боюсь!.. Мне гадалка-старушечка древняя предрекла: высоко взлетишь, далеко упадешь, на четыре грана расколешься. А я не боюсь!..
Пожил, погулял двенадцать годков после своей неверной смерти – и будет с меня… Прощайся с жизнью, великий государь Петр Федорыч…
По губам Андрея Горбатова скользнула легкая усмешка. С минуту длилось молчание. Пугачёв опять было начал вышагивать по горнице, но вновь приостановился, вперил испытующий взор свой в лицо офицера, спросил:
– Так веришь ли ты, Горбатов, в меня, в императора своего, что я есть Петр Федорыч Третий?
Грудь Горбатова поднялась и опустилась. Он смело произнес:
– Да нешто вы и в самом деле император Петр Третий?
Пугачёв, как боевой конь, дернул головой и, ошеломленный, отступил на два шага от офицера.
– А как ты думаешь, твое превосходительство? – стоя вполоборота к Горбатову, сурово и раздельно спросил он и затаил дыхание. Хмурое лицо его враз болезненно взрябилось, стриженные в кружок волосы свисли на глаза.
Горбатов знал, что за столь дерзостные речи он мог очутиться в петле.
Однако, овладев собой, с напряженным спокойствием проговорил:
– Кто бы вы ни были, ваше имя будет вписано в летопись о борцах за народ! Про вас станут песни складывать, как про Разина…
Пугачёв не вдруг осмыслил слова офицера.
– Борцов? За народ? Песни складывать? – недоуменно бросал он, двигая бровями и глядя через плечо в глаза Горбатова. – Ишь ты, ишь ты… – Затем, собравшись с мыслями, он прищурил левый глаз, тряхнул головой, напористо спросил:
– Ну, а все ж таки… Раз на тебя сумнительство напало. Ежели я не царь по-твоему, не Петр Федорыч… Так кто же я? Отвечай немедля!
Горбатов как завороженный молчал, губы его подергивались, сердце сбивалось.
– Отвечай, царь я или не царь?! – резко притопнув ногой, крикнул Пугачёв.
– Нет, вы не царь, – все тем же спокойным голосом ответил Горбатов, от крайнего напряжения он весь дрожал, лицо быстро бледнело, на высоком лбу выступила испарина.
Пугачёв прянул в сторону, взмотнул локтями. В мыслях стегнуло:
«Неужто и Горбатов такой же злодей, как Скрипицын, Волжинский и многие другие офицеры?» Желчь растеклась по жилам Пугачёва. В нем все кипело.
– Изменник! Согрубитель! – свирепо закричал он. Горбатов, как от оплеухи, весь внутренне сжался, пальцы на его руках затрепетали. – Мало я вам, злодеям, головы рубил! – Пугачёв порывисто схватил стоявшую в углу саблю и подскочил к Горбатову. Он по-настоящему любил этого молодого человека, ему было жаль умерщвлять его.
– В последний раз! Царь я или не царь?!
Горбатов все так же стоял, руки по швам, прислонившись спиной к холодной печке. В глазах его потемнело. Не помня себя, он вздохнул:
– В последний раз говорю: нет, нет!
– Так кто же я?! – взревел Пугачёв и выхватил из ножен острую, в белом огне, саблю.
– Вы выше царя! – каким-то особым, приподнятым голосом прокричал Горбатов, содрогаясь под страшным взором Пугачёва:
– Вы народа вождь! – И Горбатов вытянулся перед Пугачёвым, как в строю.
Емельян Иваныч враз остыл и присмирел. Округлив полуоткрытый рот и еще более выпучив глаза, он шумно задышал и швырнул саблю на пол. Так они оба стояли один возле другого в каком-то призрачном, как бред, молчании.
– Выше царя… Как это так – выше? Чего-то шибко заковыристо, в толк взять не могу, – бормотал Пугачёв, растерянно опустив руки и с неостывшей подозрительностью косясь на офицера.
– Все просто, все понятно, – сказал Горбатов и, помедля малое время, продолжал:
– Кабы я знал, что царь вы, я бы не пошел за вами, не служил бы вам, как теперь служу, а бежал бы от вас без огляда…
– Пошто так?
– А кто такой покойный Петр Федорыч, имя которого вы носите? – продолжал Горбатов. – Голштинский выкормок, вот кто. Россию он не знал и ненавидел ее. Что ему Россия, что ему простой народ? Да и сам по себе он был царек ничтожный… Бездельник он великий и пьяница!
Снова наступила тишина. Из груди Пугачёва снова вырвалось шумное дыхание. Он никогда не слыхал подобных слов: они ударяли его в сердце.
Потемневший взор его светлел. Откинув упавшие на глаза волосы, он приблизился к Горбатову, опять положил ему руки на плечо и взволнованно сказал:
– Милый… Друг… Уж ты прости меня, ежели пообидел. Ведь я, мотри, иным часом, как порох. Уж не взыщи! Может, ты и прав… Только, чуешь, хитро, ой, хитро ты говоришь… И со смелостью!
Охваченный внезапными мыслями, он неторопливо повернулся и – нога в ногу – подошел к окну. Стоя спиной к побледневшему, еще не пришедшему в себя Горбатову, он грыз ноготь и что-то разглядывал за окном в глухой ночи.
«Народа вождь… Выше царя…» – каким-то далеким эхом продолжали звучать в его ушах набатные необычные слова… «Выше царя… Неужто так-таки выше?»
Молчание длилось долго. За дверью мяукала кошка. Атаман Перфильев под знаменем, открыв усатый рот, похрапывал, бредил. Горбатову стало неловко.
Он вздохнул и, с особой любовью поглядывая на широкую спину Пугачёва, произнес:
– Покойной ночи, ваше величество!
Пугачёв, не поворачиваясь, отмахнулся рукой. Горбатов, придерживая саблю, на цыпочках вышел вон.
5Вскоре из Оренбурга прибыл в лагерь пожилой казак Оладушкин, дальный родственник Падурова, привез ему от жены с сыном поклоны и благословенный образок Святителя Николы. Он едва от слез удержался, когда узнал, что Тимофей Иваныч без вести пропал.
– Эка, эка беда стряслась!.. Сокол-то какой был…
– А ты сам-то как до нас добрался? – спрашивали его.
– Когда Оренбург освободили, да Матюшка Бородин пошел с казаками в Яицкий городок, ну и меня к себе зачислил. Я поупорствовал, повздорил с ним. Меня заграбастали, к плетям приговорили, а я взял да и махнул до батюшки… Да я не один, девять яицких казаков привел с собой. Ох, и насмотрелись мы делов, вся Русь вскозырилась, кажись… – голос у старого Оладушкина хриплый, усы большие, сивые, подбородок голый, глаза навыкате – задорные.