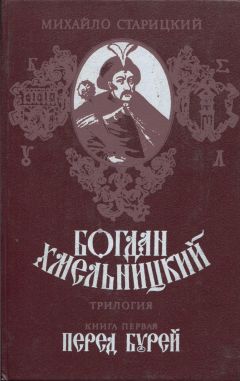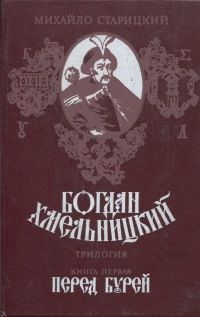Поселившиеся в оврагах беглецы мало, впрочем, знали о позднейших событиях: они вели скрытую, отшельническую жизнь, проникая изредка, воровским способом, в местечка за необходимыми припасами, а потому ни про Богуна, ни про Нечая ничего не слыхали; одно только могли они сообщить, что люд вообще притих и замолк.
Богдан, впрочем, и не старался особенно выпытывать обо всем у хуторян-беглецов: он спешил в Каменец и весь был поглощен интересом предстоящего свиданья с королем. Путники, понукаемые им, ехали так торопливо, что на пятый день показалась уже на горизонте каменецкая крепостная скала.
Издали эта неприступная крепость казалась каким-то колоссальным поршнем, торчащим в черной дыре гигантской, широко раскинувшейся воронки; но, по мере приближения к ней, пологие края котловины сливались с дальними горизонтами, а скала вырастала и вырастала, становясь господствующей над ближайшими окрестностями.
Когда путники подъехали к самому краю страшного обрыва, что окружал пропастью грозную скалу, они окаменели на месте, пораженные необычайным явлением.
Дикая, невиданная картина разила мрачной красотой ум и давила унынием сердце. Какие-то страшные геологические перевороты сыграли здесь грозную шутку, раскололи зияющей трещиной скалы и выдвинули из средины бездны колоссальную глыбу. Базальтовый утес цилиндрической формы с источенными и почерневшими от времени боками мрачно поднимался со дна глубокого оврага и возвышался усеченной вершиной сажен на пять над окружающими его противоположными берегами ущелья. Эта пропасть с совершенно отвесными ребрами, глубиной до сорока сажен и шириной почти столько же, правильным замкнутым кольцом окружала утес. Река Смотрич, ворвавшись в это глубокое круглое ущелье, билась бешено с пеной о нависшие над ней скалы и, обогнув их, неслась по мелко-каменистому дну, по рыни[66], к Днестру. На плоской вершине этого утеса, имеющей в диаметре до трехсот саженей, сидела неприступная, грозная крепость{102}.
Круглые башни, зубчатые муры висели над пропастью и мрачно глядели своими черными амбразурами на окрестность. Ни зелени, ни дерев на этом черном камне не было видно нигде; только сероватый мох старческими лишаями покрывал подножия скал да свешивался в иных местах беспорядочными прядями вниз. Из-за муров выглядывали красными пятнами черепичные кровли, а меж ними возвышались и ярко белели на чистой лазури стройные спицы минаретов{103} и готические стрелы костелов. В одном только месте, по дороге к Хотину, перекинут был через эту пропасть каменный мост; он лежал на каменных сводах, возвышавшихся со дна пропасти лишь до половины высоты окружающих скал, так что к нему нужно было сначала спускаться по крутой, узкой тропинке, высеченной зигзагами в скале, и подыматься по такой же скале вверх на противоположной стороне оврага. С внешней стороны у начала спуска к мосту возвышались две грозные сторожевые башни, окруженные мурами да рвами и соединенные тайником с главной крепостью; у самого моста при входе и при выходе стояло тоже по круглой башне, через которые и шел узкий проезд, замыкавшийся железными брамами.
С замиранием сердца подъехал Богдан к сторожевой башне и робко спросил у вартового, здесь ли еще пребывает его ясность король? А когда вартовой ответил ему утвердительно, то радости его не было границ: первая и весьма большая удача предвещала ему и остальные. Перекрестившись под плащом, он нырнул под темные своды крепостной башни и, переехав мост и въездную браму, остановился на небольшой тесной площадке в самой крепости{104}, поджидая своих товарищей и вдыхая в облегченную грудь удушливый запах чеснока, смешанный с каким-то жирным угаром. Издали доносился к нему стук колес и копыт, глухой говор, смешанный с визгливым криком торговок, а вблизи звенели в кузницах удары молотов и шумели меха.
Не успел остановиться Богдан и подумать, куда бы направиться, как незаметно из соседних переулков его окружила толпа евреев в лапсердаках, ермолках, худых, босых и оборванных; они осадили его целым роем вопросов, просьб и предложений, пересыпая эту атаку боевыми схватками между собою.
— Ясновельможный пане, проше, я покажу отличную квартиру, — хватался один за стремя.
— Пане грабе[67], сколько пану нужно покоев? Три, четыре, пять? У меня дешево, пышно! — останавливал другой коня за узду.
— Пане княже, я палац даю, палац! — кричал третий, отталкивая с бранью первого. — Что ты понимаешь! Ведь это ясноосвецоный, а ты — думкопф![68]
— Не слушай его, пане: он зух!
— Ах ты, шельма! — схватывались они за пейсы, а четвертый, оттолкнувши бойцов, лез уже почти к карманам Богдана. — Пане, пане! Купи у меня шапку и бурку, сличные... даром отдам!
— У меня, у меня, ясный пане, и сбруя, и седла, и мушкеты, и кожи, и мыдла[69], и полотна, и сливы... и такое, что пан только пальцы оближет.
— Геть! Набок! — крикнул наконец выведенный из терпенья Богдан, махнув нагайкой, и повернул со спутниками налево в переулок, решившись приютиться у своего приятеля, даже родича по жене, пана Случевского, который был в Каменце бургомистром. Недалеко, за переулком, стоял во дворе и каменный одноэтажный дом этого пана; туда и заехали всадники.
Хозяева были страшно изумлены приездом Богдана, которого считали уже, по слухам, погибшим, но вместе с тем и обрадовались ему искренно. Богдан представил своим своякам джуру Марыльку, объяснив, что она дочь польского магната и спасена им из плена неверных. Интересная гостья была сейчас же заключена хозяйкой в объятия и отведена на женскую половину для перемены костюма и для приведения ее в свойственный ей, пышный, восхитительный вид; а Богдан пошел оправиться с дороги на половину Случевского; простые же козаки были помещены в офицынах[70].
Через час или два, когда сумерки уже повисли над Каменцем дремотно-серым покрывалом, а в покоях пана Случевского зажглись в массивных шандалах восковые свечи, все общество собралось в обширной светлице, обставленной с некоторой претензией на моду, вторгавшуюся уже из чужеземщины и в захолустья: между старинной, массивной мебелью стоял случайно затесавшийся комод с бронзовыми украшениями и перламутровыми инкрустациями, между рядами икон поместилось внизу, поддерживаемое амурами и нимфами, зеркало; между рамами старинных портретов висела гравюра, изображавшая эпизод из игривых похождений Юпитера...{105}
Все уселись за дубовый, покрытый несколькими скатертями стол и принялись с аппетитом за обильную вечерю. Марылька сделалась сразу предметом общего восхищения. В девичьем роскошном польском наряде, с изящно убранной головкой, она теперь блистала новой, освеженной красой; ни в живых красках лица, ни в блеске глаз, ни в грации ее движений не сказывалось никакого утомления, а, напротив, играла и била ключом молодая, цветущая жизнь. Марылька сразу почувствовала в этом салоне свою силу и прикоснулась к яду наслаждения властвовать над сердцами. С детскою наивностью и врожденным кокетством она увлекательно рассказывала о своих приключениях, то трогая слушателей описанием трагических эпизодов и искренностью чувства к благородному рыцарскому подвигу ее спасителя, то смеша их до слез игривыми вставками разных случайностей. Почувствовав себя вне опасности и в родной обстановке, Марылька сразу приняла уверенный тон, даже с некоторым оттенком фамильярности, которая, впрочем, не только не производила неприятного впечатления, а даже поднимала ее в глазах семьи бургомистра как магнатку. Взрослая, молоденькая дочь их, нарядившая гостью, просто не могла оторвать от нее своих глаз. Марылька платила ей за это милостивой улыбкой и посвящала, ради возникшей приязни, в какие-то интимные сообщения. К концу ужина между ними завязался долгий таинственный разговор.
Пан Случевский расспрашивал между тем Богдана об его похождениях, не скрывая отчасти своих шляхетских симпатий и удивляясь нелепым претензиям козаков, неуменью их ладить с мосцивыми панами, которые все-таки внесли свет в эти дикие края. Богдан, зная политические убеждения своего дальнего родича, не желал с ним вступать в бесполезный спор, а заметил лишь между прочим уклончиво:
— Эх, свате, свате! Не мы идем на погибель шляхетству, а вы!
— Как так? — вытаращил глаза Случевский.
— А так. Недомыслящее шляхетство и его однодумцы желают повернуть весь вольный народ в рабов, в свое быдло, а ведь этот народ есть споконвечный господарь и рабочая сила этой земли. Так как же ты думаешь, свате, если б нас с тобой выгоняли из нашей, кровью и потом орошенной земли, так мы бы ее добровольно уступили и поклонились бы любовно нашим грабителям? Нет! Трупы наши может выволокли б, но не нас... А если бы из нас какой-либо курополох и остался живым, то шляхетский пан нашел бы себе в нем вечного, непримиримого врага... А ты прикинь-ка разумом, сколько таких врагов пришлось бы на пана? Вот смотри, — Богдан взял в горсть поджаренного, смаженого гороху и несколько фасолин, положив последние сверху, он встряхнул горстью, и фасоли исчезли между горохом, — а ну, поди, поищи теперь твою фасоль!