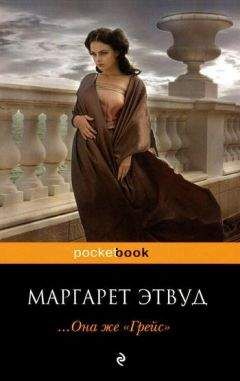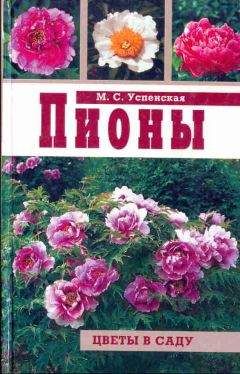Сейчас у меня есть швейная машинка, которая приводится в действие маховичком и работает как по волшебству. Она экономит много сил, особенно при простом шитье штор или подрубке простыней. Более тонкую работу я по старинке выполняю руками, хотя глаза у меня уже и не те.
Кроме того, что я описала, у нас есть все необходимое: огород с зеленью, капустой, корнеплодами и горохом по весне; куры, утки, корова и хлев, а также коляска и две лошади — Чарли и Нелл, которые приносят мне много радости и составляют компанию, когда мистера Уолша нет дома. Чарли, правда, слишком много работает, ведь он — тягловая лошадь. Говорят, скоро появятся машины, которые будут выполнять самую тяжелую работу, и тогда беднягу Чарли можно будет отправить на выгон. Я никогда не позволю сдать его на клей и собачью еду, как поступают некоторые.
На нашей ферме трудится один батрак, но живет он отдельно. Мистер Уолш хотел нанять еще девушку, но я сказала, что лучше буду вести домашнее хозяйство сама. Мне бы не хотелось, чтобы с нами жила служанка, которая будет подсматривать да подслушивать за дверью. Да и мне самой намного проще сразу все сделать как следует, чем после кого-нибудь переделывать.
Нашу кошку зовут Полосаткой — понятно, какого она окраса, — и она хорошо ловит мышей. А собаку зовут Рекс — это не шибко смышленый, но добродушный сеттер очень приятного красновато-коричневого окраса, похожего на блестящий каштан. Имена у них обычные, да нам и не хочется прослыть в округе большими оригиналами. Мы ходим в местную методистскую церковь, проповедник там живчик и любит подбавить адского жару на воскресной проповеди. Хотя мне кажется, он не имеет ни малейшего понятия о том, что же такое Преисподняя, впрочем, как и его прихожане — достойные, но ограниченные люди. Мы решили, что лучше никому не рассказывать о своем прошлом, ведь это привело бы к нездоровому любопытству, сплетням и лживым слухам. Мы пустили слушок, что мистер Уолш был моим другом детства, но я вышла замуж за другого и недавно овдовела. А поскольку жена мистера Уолша умерла, то мы решили снова встретиться и пожениться. В эту историю люди охотно поверили, ведь она романтичная и ни у кого не вызывает подозрений.
Наша церковка совсем захолустная и старая, но в самой Итаке есть церкви поновее, там много спиритов, и в город приезжают именитые медиумы, которые останавливаются в лучших домах. Сама-то я всем этим не увлекаюсь, ведь мало ли что может из этого выйти, а если бы мне захотелось пообщаться с усопшими, то я вполне могла бы это сделать без чужой помощи. И к тому же, боюсь, там много жульничества и обмана.
В апреле я увидела афишу одного знаменитого медиума вместе с его портретом, и хотя изображение было нечеткое, я подумала: «Наверно, это коробейник Джеремайя». Это и впрямь оказался он: когда мы с мистером Уолшем поехали в город по делам и за покупками, я столкнулась с ним на улице. Одет он был очень элегантно, его волосы снова почернели, а бородка была подстрижена по-военному, что, вероятно, внушало доверие, а звали его теперь мистер Джеральд Бриджес. Он очень хорошо разыгрывал из себя знатного великосветского джентльмена, устремленного помыслами к высшей истине. Он тоже меня увидел, узнал и почтительно коснулся рукой шляпы, но мельком, чтобы не обращать на себя внимания, да к тому же подмигнул. А я легонько махнула ему рукой, не снимая перчатки, ведь я всегда надеваю перчатки, отправляясь в город. К счастью, мистер Уолш ничего не заметил, иначе это его насторожило бы.
Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь узнал мое настоящее имя, но я уверена, что мы с Джеремайей будем свято хранить свою тайну. Я вспомнила то время, когда могла бы убежать вместе с ним, стать гадалкой или ясновидящей целительницей, ведь меня это так прельщало. И моя судьба сложилась бы тогда совсем иначе. Но одному Богу известно, было бы мне от этого лучше или хуже, да и в любом случае в этой жизни я уже свое отбегала.
С мистером Уолшем мы в принципе ладим, и дела у нас идут очень хорошо. Но что-то меня беспокоит, сэр, и поскольку у меня нет близкой подруги, то я рассказываю об этом вам, зная, что вам можно доверять.
Дело вот в чем. Изредка мистер Уолш кручинится: берет меня за руку, смотрит на меня со слезами на глазах и говорит:
— Как подумаешь, сколько страданий я тебе причинил!
Я говорю ему, что никаких страданий мне он не причинял, мол, во всем виноваты другие люди, а еще простое невезение и неправедный суд. Но ему нравится думать, будто виновником всех моих бед был он сам, и мне кажется, он бы обвинил себя даже в смерти моей бедной матушки, если б только выдумал для этого способ. Еще ему нравится представлять себе эти страдания, и он просит, чтобы я рассказала ему какую-нибудь историю из жизни в тюрьме или в лечебнице для душевнобольных в Торонто. Ему приятно слушать рассказы о пустом супе, прогорклом сыре и обидных грубостях и тычках охранников. Он внимает мне, словно ребенок, слушающий сказку, как будто я рассказываю ему чудеса, а потом просит меня продолжать. Когда я вспоминаю, как тряслась по ночам в ознобе под тоненьким одеялом и как меня секли розгой, если я начинала жаловаться, он приходит от этого в восторг. Если же я рассказываю о том, как недостойно обращался со мной мистер Баннерлинг, о холодной ванне, которую я принимала нагишом, завернутая в простыню, и о том, как я сидела в смирительной рубашке в темном карцере, его охватывает настоящее исступление. Но самый любимый его эпизод — это когда бедняга Джеймс Макдермотт таскал меня по всему дому мистера Киннира, подыскивая кровать для своих порочных целей, а Нэнси с самим мистером Кинниром лежали в погребе, и я с ума сходила от страха. Мистер Уолш винит себя в том, что тогда не спас меня.
Лично я с радостью забыла бы об этом времени своей жизни, вместо того чтобы все это пережевывать да по новой горевать. Правда, мне нравилось то время, когда в исправительном доме были вы, сэр, ведь это вносило разнообразие в мою скучную жизнь. Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что, подобно мистеру Уолшу, вы с жадным вниманием слушали рассказы о моих страданиях и жизненных тяготах, но вы их еще и записывали. Когда интерес ослабевал, ваш взгляд начинал блуждать, но я всегда радовалась, когда мне удавалось вспомнить что-нибудь занимательное. Тогда ваши щеки вспыхивали, и вы улыбались, как солнышко на часах в гостиной. Будь вы собакой, ваши уши навострились бы, глаза загорелись, а язык свесился бы изо рта, словно вы нашли в кустах куропатку. Я чувствовала, что тоже могу приносить пользу, хотя никогда толком не понимала, к чему же вы клоните.
Ну а мистер Уолш после моих рассказов о горе и мучениях сжимает меня в объятиях, гладит по волосам и начинает расстегивать мою ночную сорочку — ведь это нередко происходит по ночам. А потом говорит:
— Простишь ли ты меня когда-нибудь?
Вначале это меня раздражало, хоть я и помалкивала. По правде говоря, лишь очень немногие понимают толк в прощении. В нем ведь нуждаются не преступники, а скорее сами жертвы, потому что из-за них-то и стряслась беда. Если бы они были не такими слабыми и беспечными, а более дальновидными, и если бы старались не нарываться на неприятности, то на свете стало бы меньше горя.
Многие годы я таила злобу на Мэри Уитни и в первую очередь на Нэнси Монтгомери за то, что они позволили себя погубить и оставили меня с этой тяжестью на сердце. Очень долго я не могла найти в себе силы их простить. Лучше бы сам мистер Уолш меня простил, а не упрямо добивался обратного, но, возможно, со временем он сможет более трезво взглянуть на вещи.
Когда он в первый раз развел эту канитель, я сказала, что мне его не за что прощать, и пусть он не морочит себе голову, но ему нужен был другой ответ. Он настаивал на прощении, словно не мог без него прожить, да и кто я такая, чтобы отказывать ему в этой мелочи?
Так что теперь всякий раз, когда он опять начинает, я говорю, что прощаю его. Кладу руки ему на голову, торжественно обращаю взор горе, как пишут в книгах, а потом целую его и проливаю скупую слезу. И на следующий день после моего прощения он снова становится нормальным и играет на флейте, будто он опять мальчик, а мне — пятнадцать лет, и мы вместе плетем венки из маргариток в саду мистера Киннира.
Но когда я его так прощаю, мне почему-то становится не по себе, ведь я понимаю, что это ложь. Хотя, наверно, это не первая моя ложь. Но, как говаривала Мэри Уитни, святая ангельская ложь — не такая уж большая плата за мир и покой.
В последнее время я часто думаю о Мэри Уитни, о том, как мы бросали через плечо яблочную кожуру: ведь почти все сбылось. Как она и говорила, я вышла за мужчину, имя которого начинается на Д. Но перед этим мне пришлось трижды пересечь водную гладь: два раза на льюистонском пароме — туда и обратно, а потом еще раз по пути сюда.
Иногда мне снится, что я опять в своей спаленке у мистера Киннира, еще до всей этой жуткой трагедии, у меня очень спокойно на душе, и я даже не подозреваю о грядущих событиях. А иногда мне снится, что я по-прежнему сижу в исправительном доме, и мне кажется: вот сейчас проснусь, и сызнова окажусь в запертой камере, и буду дрожать холодным зимним утром на соломенном тюфяке, а снаружи во дворе будут смеяться охранники.