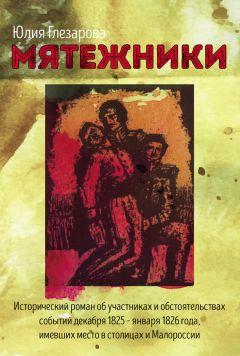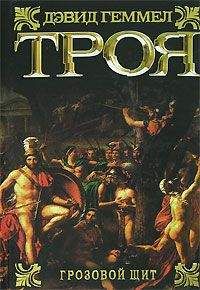– Но это ложь! Он меня спасает, и только… Вы должны понять, ваше превосходительство… Прошу вас… дайте мне свидание, очную ставку с ним. Я скажу ему, я докажу…
– Очные ставки вам дадут… когда нужным сие сочтется. И не с ним одним только. Ныне же брат ваш подтверждает его слова.
Лицо арестанта приняло давешнее безумное выражение, глаза стали мутными; горячей ладонью он крепко, до боли сжал руку Чернышеву.
– Нет! Брат мой не ведает, что он творит! Ему нельзя верить…
– Жаль мне, весьма жаль, но привесть Бестужева к раскаянью, – Чернышев скинул его ладонь, бережно натянул перчатку обратно на руку, – мне все же придется. Уже сейчас представил я государю о заковании его в железа. Учитывая же сие… – генерал взял листок с показаниями Орлова.
– Вы не посмеете, – арестант закрыл лицо руками. – Не надо… Умоляю…
– Уверяю вас, что посмею.
Генерал чувствовал внутреннее ликование, охватывающее человека в конце трудной, но отлично выполненной работы. День был прожит не зря – между ним и монаршим гневом была воздвигнута прочная стена, в основании коей лежали показания Пестеля. Сейчас Чернышев испытывал к главному извергу благодарность вкупе с брезгливостью; нечто подобное он ощущал после сношения с актерками или публичными девками. Что же касалось до восьмого нумера, то с ним было все кончено – он, как многие другие, был сломлен казематом и генеральской волей. Чернышев не торопил подполковника, но уже прекрасно знал, что он скажет.
– Хорошо, ваше превосходительство, – охриплым голосом наконец проговорил арестант, – велите принести чернил и бумагу. Все напишу, что вы требуете… Только… его не трогайте…
Генерал улыбнулся.
Муравьев не обманул его ожиданий.
– Не надо бумаги и чернил. Вас сейчас господин генерал-лейтенант Левашов допрашивать будет. Он даст вам копию. Ее и подпишите. Отдыхайте, Сергей Иванович. Государь милостив, авось все устроится…
Когда Чернышев вышел из равелина, куранты пробили пять. Через час начиналось заседание Комитета. Но генерал понял вдруг, что еще немного – и он упадет от усталости. Позвал Адлерберга, попросил господину председателю, что болен и не придет в присутствие.
– Отчет завтра пришлю…
Выезжая из крепости, Чернышев увидел великого князя Михаила Павловича. Про Михаила знали, что он любил совершать пеший моцион из Зимнего в крепость. «Фельдцейхмейстер чертов… – злобно подумал генерал, – привык на готовое».
Спустя несколько дней Мишель получил высочайшую аудиенцию, но вышло все не так, как он задумывал. Государь не интересовался мнением Мишеля о тайном обществе и его собственной роли в нем; монарх кричал на него, требовал называть фамилии…
В конце января Мишеля вызвали на устный допрос в Комитет.
Он собирался на этот допрос, как Наполеон – на генеральное сражение. Пока вели от каземата до Комендантского дома, мерещилась сцена: господа члены Комитета, пораженные его прямотой и откровенностью, освободят Сережу – а ему, в награду, дадут свидание с ним. В это, правда, он не очень верил… Но знал: от смелости его зависит все.
Яркий свет в отведенной для допросов зале ослепил Мишеля: по крепости вели с завязанными глазами. Когда глаза чуть привыкли к свету, Мишель огляделся: вокруг длинного стола сидели генералы, увешанные крестами. Все они – за исключением Чернышева – были ему незнакомы. Генералы с интересом рассматривали его.
– Комитет ознакомился с предварительными вашими показаниями, подпоручик, – сказал Чернышев, любезно улыбаясь, – Надеюсь, вы готовы отвечать чистосердечно и без малейшей утайки.
– Я готов, спрашивайте, ваше превосходительство, – Мишель поднял голову, старясь смотреть прямо в глаза генералу.
«Сейчас, – решил он, – на первый же вопрос… касательно общества нашего… правду открою».
– Господа члены Комитета, – продолжал Чернышев прежним тоном, – прежде чем приступить к выяснению обстоятельств дела, спросить вас желают: что сблизило вас с подполковником Муравьевым?
– Он друг мне.
– Это Комитету известно. Я спрашивал об обстоятельствах дружбы вашей, вы разве не слышали?
– Он… оказывал мне услуги… – Мишель почувствовал, как в горле его пересохло, а ноги похолодели.
– Господа, – сказал Чернышев, обращаясь к генералам за столом, – несколько дней тому я имел приватную беседу с подпоручиком. Мною ему были предъявлены показания его сообщника о том, что с подполковником Муравьевым жил он постоянно вместе. На вопрос о причинах сего странного общежития господин Бестужев мне не ответил. Но, может быть, сейчас он соблаговолит дать ответ… Тем более, что долг службы требовал находиться каждому при своем полку.
Один из генералов, как показалось Мишелю, чуть старше его самого, со смешным хохолком на голове, спросил, подмигнув весело:
– А что, подпоручик, не было ли в связи сей чего незаконного, артикулами запрещенного? Может быть, дело здесь не только в дружбе? Хотя, честно вам признаюсь, – он развел руками, – я ужаса такого и представить себе не могу…
Другой генерал, постарше, засмеялся в голос. Остальные зашевелились, тихо переговариваясь между собою.
Мишель схватился пальцами за край стола. Зеленое сукно сдвинулось, тяжелый подсвечник съехал со своего места, пламя свечей заколебалось.
– Осторожнее! – весело крикнул молодой генерал с хохолком.
Мишель отпрянул от стола и убрал руки.
– Отвечайте, когда спрашивает его высочество!.. – зашипел Чернышев.
– Я… мы подружились… он оказывал услуги мне.
– Какие услуги, уточните, – настаивал генерал. – Я точно знаю, что именно друг ваш принял вас в тайное общество. Так ведь?
– Так…
– Так и запишем-с…
Мишель вдруг перестал понимать, что происходит за столом, кто и какие именно задает ему вопросы, перестал слышать и свои собственные ответы. В глазах его потемнело, в голове же крутилась одна мысль: только бы не упасть…
– Впрочем, – донесся до него голос Чернышева, – не следует ли прислать господину подпоручику письменные вопросы? Сейчас, как мне кажется, он не может собраться с мыслями…
Вопросы принесли в тот же день; глядя в них, Мишель обнаружил первым пунктом то же самое – о связи его с подполковником. Отвечал он путано, как и в Комитете… Перед глазами летали красные пятна. Он понял, что замысел его рухнул, что ему все равно не поверят, решат, что он просто выгораживает друга… Сережа был на пороге смерти; и он, Мишель, ничего не мог с этим поделать.
Больше всего Мишель страшился остаться один. Этот дикий, почти животный страх одиночества впервые настиг его в корчме в Трилесах. Потом, когда он решил, что сможет влиять на следствие, страх пропал, сейчас вернулся снова. Мишель не мог справиться с этим страхом, разорвал на себе рубаху, всю ночь метался по камере: четыре шага в длину, четыре в ширину… Он вспоминал дерзкие слова свои, обращенные к Чернышеву – о том, что не хочет жить. Тогда это была пустая бравада, теперь же, ежели спасти Сережу не удавалось, собственное его существование не имело ровно никакого смысла.
Мишель мечтал увидеться с другом, обнять его, услышать голос его, разрыдаться на его груди… Но это было никак невозможно.
Сережа сидел в равелине. Но хотя бы получить возможность написать ему… За это Мишель, не задумываясь, отдал бы жизнь прямо сейчас, не дожидаясь окончания дела. Уяснив это для себя, он решил попытаться…
Наутро в камеру вошел караульный офицер, поручик Глухов – с ним Мишель уже давно познакомился. Поручик был человеком пожилым, лет пятидесяти, всю жизнь свою прослужил при крепости, многое видел. Крепость для Глухова давно уже стала родным домом: он и ночевал в казарме при ней. Семьи у него не было, производством он был давно забыт. Узник заметил: Глухов ему сочувствует, заходя в камеру для узнания, не надо ли чего, смотрит грустно и участливо. И Мишель решился…
– Господин поручик, Михаил Евсеевич… – начал он в ответ на традиционный вопрос о здоровье. – Здоровье мое в порядке. Душа вот болит только… Друг мой в равелине… подполковник Муравьев… ранен он, болен, может быть, при смерти. Нельзя ли письмо передать? Я отпишу папеньке… он денег заплатит.
Глухов поглядел на него внимательно.
– За сие меня в каторгу осудят… Впрочем, – тут он глянул Мишелю в глаза, – пишите, я принесу перо и бумагу. Денег не надобно.
Когда перо и бумага были принесены, Мишель долго не мог собраться с мыслями от внезапно свалившегося счастья. Полчаса он сидел, тупо глядя в лист.
– Пишите, подпоручик, – войдя в камеру, Глухов увидел его, сидящего над пустым листом. – Неровен час, вопросы из Комитета принесут. Пишите, у вас мало времени.
Мишель принялся писать. Он молил друга своего не оставлять его одного на этом свете… И ежели Сереже суждено погибнуть, то необходимо нужно взять его с собою. А для сего рассказать правду об обществе и о том, что без него, Мишеля, на самом деле ничего бы не было. Записка получилось короткая, перечитывая ее, Мишель заплакал.