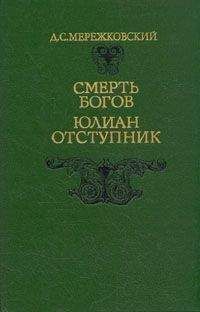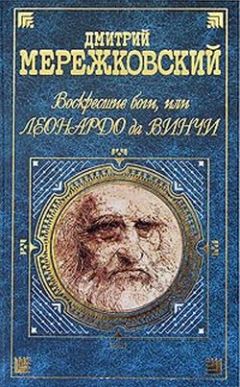Он взял перо и крупным, детски-неуклюжим, но величественным почерком вывел на пергаменте:
«Fiat.[68] – Alexander Sextus episcopus servus servorum Dei».[69]
Два монаха цистерцианца из апостолической коллегии «печатников» – пиомбаторе, подвесили к булле на шелковом шнуре, продетом сквозь отверстия в толще пергамента, свинцовый шар и расплющили его железными щипцами в плоскую печать с оттиснутым именем папы и крестом.
– Ныне отпущаеши раба Твоего! – прошептал Илерда, подымая к небу впалые глаза, горевшие огнем безумной ревности.
Он, в самом деле, верил, что, если бы положить на одну чашу весов все злодеяния Борджа, а на другую эту буллу о духовной цензуре, – она перевесила бы.
Тайный кубикуларий приблизился к папе и что-то сказал ему на ухо. Борджа, с озабоченным видом, прошел в соседнюю комнату и далее, через маленькую дверь, спрятанную ковровыми обоями, в узкий сводчатый проход, озаренный висячим фонарем, где ожидал его повар отравленного кардинала Монреале. До Александра VI дошли слухи, будто бы количество яда оказалось недостаточным и больной выздоравливает.
Расспросив повара с точностью, папа убедился, что, несмотря на временное улучшение, он умрет через два, три месяца. Это было еще выгоднее, так как отклоняло подозрения.
«А все-таки, – подумал он, – жаль старика! Веселый был, обходительный человек и добрый сын Церкви».
Сокрушенно вздохнул, понурив голову и добродушно выпятив пухлые, мягкие губы.
Папа не лгал: он, в самом деле, жалел кардинала, и если бы можно было отнять у него деньги, не причинив ему вреда, – был бы счастлив.
Возвращаясь в приемную, увидел в зале Свободных Искусств, иногда служившей трапезною для маленьких дружеских полдников, накрытый стол и почувствовал голод.
Деление земного шара отложено было на послеобеденное время. Его святейшество пригласил гостей в трапезную.
Стол украшен был живыми белыми лилиями в хрустальных сосудах, цветами Благовещения, которые папа особенно любил, потому что девственная прелесть их напоминала ему Лукрецию.
Блюда не были роскошными: Александр VI в пище и питье отличался умеренностью.
Стоя в толпе камерариев, Джованни прислушивался к застольной беседе.
Датарий, дон Хуан Лопес, навел речь на сегодняшнюю ссору его святейшества с Чезаре и, как будто не подозревая, что она притворная, начал усердно оправдывать герцога.
Все присоединились к нему, превознося добродетели Чезаре.
– Ах, нет, нет, не говорите! – качал головой папа с ворчливою нежностью. – Не знаете вы, друзья мои, что это за человек. Каждый день я жду, какую еще штуку выкинет. Помяните слово мое, доведет он нас всех до беды, да и сам себе шею сломает… Глаза его блеснули отеческою гордостью.
– И в кого только уродился, подумаешь? Вы ведь меня знаете: я человек простой, бесхитростный. Что на уме, то и на языке. А Чезаре, Господь его ведает, – все-то он молчит, все-то прячется. Верите ли, мессеры, иногда кричу на него, ругаюсь, а сам боюсь, да, да, собственного сына боюсь, потому что вежлив он, даже слишком вежлив, а как вдруг поглядит-точно нож в сердце… Гости принялись еще усерднее защищать герцога. – Ну, да уж знаю, знаю, – молвил папа с хитрою усмешкою, – вы его любите, как родного, и нам в обиду не дадите…
Все притихли, недоумевая, каких еще похвал ему нужно.
– Вот вы все говорите: такой он, сякой, – продолжал старик, и глаза его загорелись уже неудержимым восторгом, – а я вам прямо скажу: никому из вас и не снилось, что такое Чезаре! О, дети мои, слушайте – я открою вам тайну сердца моего. Не себя ведь я в нем прославляю, а некий высший Промысел. – Два было Рима. Первый собрал племена и народы земные под властью меча. Но взявший меч от меча погибнет. И Рим погиб. Нe стало в мире власти единой, и рассеялись народы, как овцы без пастыря. Но миру нельзя быть без Рима.
И новый Рим хотел собрать языки под властью Духа, и не пошли к нему, ибо сказано: будешь пасти их жезлом железным. Единый же духовный жезл над миром власти не имеет. Я, первый из пап, дал церкви Господней сей меч, сей жезл железный, коим пасутся народы и собираются в стадо единое. Чезаре – мой меч. И се, оба Рима, оба меча соединяются, да будет папа Кесарем и Кесарь папою, царство Духа на царстве Меча в последнем вечном Риме!
Старик умолк и поднял глаза к потолку, где золотыми лучами, как солнце, сиял багряный зверь.
– Аминь! Аминь! Да будет! – вторили сановники и кардиналы Римской церкви.
В зале становилось душно. У папы немного кружилась голова не столько от вина, сколько от опьяняющих грез о величии сына.
Вышли на балкон – рингиеру, выходившую на двор Бельведера.
Внизу папские конюхи выводили кобыл и жеребцов из конюшен.
– Алонсо, ну-ка, припусти! – крикнул папа старшему конюху.
Тот понял и отдал приказ: случка жеребцов с кобылами была одной из любимых потех его святейшества.
Ворота конюшни распахнулись; бичи захлопали; послышалось веселое ржание, и целый табун рассыпался по двору; жеребцы преследовали и покрывали кобыл.
Окруженный кардиналами и вельможами церкви, долго любовался папа этим зрелищем.
Но мало-помалу лицо его омрачилось: он вспомнил, как несколько лет назад любовался этой же самой потехой вместе с мадонной Лукрецией. Образ дочери встал перед ним, как живой: белокурая, голубоглазая, с немного толстыми чувственными губами – в отца, вся свежая, нежная, как жемчужина, бесконечно покорная, тихая, во зле не знающая зла, в последнем ужасе греха непорочная и бесстрастная. Вспомнил он также с возмущением и ненавистью теперешнего мужа ее, феррарского герцога Альфоонсо д`Эсте. Зачем он отдал ее. зачем согласился на брак?
Тяжело вздохнув и понурив голову, как будто вдруг почувствовав на плечах своих бремя старости, вернулся папа в приемную.
Здесь уже приготовлены были сферы, карты, циркули, компасы для проведения великого меридиана, который должен был пройти в трехстах семидесяти португальских «легуах» к западу от островов Азорских и Зеленого Мыса. Место это выбрано было потому, что именно здесь, как утверждал Колумб, находился «пуп земли», отросток грушевидного глобуса, подобный сосцу женской груди – гора, достигающая лунной сферы небес, в существовании коей убедился он по отклонению магнитной стрелки компаса во время своего первого путешествия.
От крайней западной точки Португалии с одной стороны и берегов Бразилии – с другой отметили равные расстояния до меридиана. Впоследствии кормчие и астрономы должны были с большею точностью определить эти расстояния днями морского пути.
Папа сотворил молитву, благословил земную сферу тем самым крестом, в который вставлен был изумруд с Венерой Каллипигою, и, обмакнув кисточку в красные чернила, провел по Атлантическому океану от северного полюса к южному великую миротворную черту: все острова и земли, открытые или имевшие быть открытыми к востоку от этой черты, принадлежали Испании, к западу – Португалии.
Так, одним движением руки разрезал он шар земли пополам, как яблоко, и разделил его между христианскими народами.
В это мгновение, казалось Джованни, Александр VI, благолепный и торжественный, полный сознанием своего могущества, походил на предсказанного им миродержавного Кесаря-Папу, объединителя двух царств – земного и небесного, от мира и не от мира сего.
В тот же день вечером, в своих покоях в Ватикане, Чезаре давал его святейшеству и кардиналам пир, на котором присутствовало пятьдесят прекраснейших римских «благородных блудниц» – meretrices honestae.
После ужина закрыли окна ставнями, двери заперли, со столов сняли огромные серебряные подсвечники и поставили их на пол. Чезаре, папа и гости кидали жареные каштаны блудницам, и они подбирали их, ползая на четвереньках, совершенно голые, между бесчисленным множеством восковых свечей: дрались, смеялись, визжали, падали; скоро на полу, у ног его святейшества, зашевелилась голая груда смуглых, белых и розовых тел в ярком, падавшем снизу, блеске догоравших свечей.
Семидесятилетний папа забавлялся, как ребенок, бросал каштаны пригоршнями и хлопал в ладоши, называя кортиджан своими «птичками-трясогузочками».
Но мало-помалу лицо его омрачилось точно такою же тенью, как после полдника на рингиере Бельведера: он вспомнил, как в 1501 году, в ночь кануна Всех Святых, любовался вместе с мадонной Лукрецией, возлюбленною дочерью, этой же самою игрою с каштанами.
В заключение праздника гости спустились в собственные покои его святейшества, в залу Господа и Божьей Матери. Здесь устроено было любовное состязание между кортиджанами и сильнейшими из романьольских телохранителей герцога; победителям раздавались награды.
Так отпраздновали в Ватикане достопамятный день Римской церкви, ознаменованный двумя великими событиями – разделением шара земного и учреждением духовной цензуры.
Леонардо присутствовал на этом ужине и видел все. Приглашение на подобные празднества считалось величайшею милостью, от которой невозможно было отказаться.