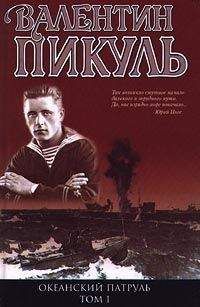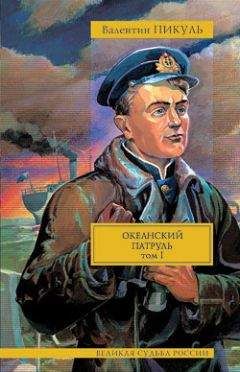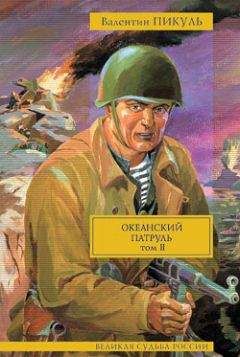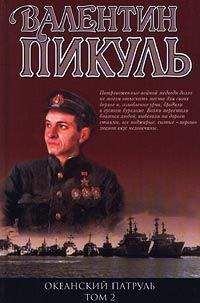— Ну! — говорит он, грубо ощупывая избитое тело егеря. — Ты, парень, легко отделался.
Он лезет к нему в рот жесткими пальцами, равнодушно замечает:
— Зубы выбили, а корни остались.
Достав щипцы, вырывает корни. Франц Яунзен выплевывает кровь, плачет:
— О, майн готт, за что меня так?..
— Не скули! — Фельдфебель смазывает ему синяки какой-то мазью, говорит: — Иди… иди, парень.
— Куда?.. Куда идти?
— В канцелярию.
В канцелярии военный чиновник, как будто ничего не случилось, говорит ему:
— Впредь вы будете следить за настроением солдат вашего взвода и немедленно докладывать обо всем лейтенанту Вальдеру. Ваш служебный номер, который вы должны хранить в тайне, — 7318… Можете идти.
— Слушаюсь, — ответил Яунзен, а когда очутился на улице, то поднял голову и, глядя на звезды, поклялся: «Чтобы я когда-нибудь что-нибудь для кого-нибудь еще написал… да никогда!..»
До сих пор Герделер думал, что мощь третьей империи заключена в железных колоннах солдат, в генералах людендорфской выучки, в беспрекословной дисциплине, в жерлах орудий, в крейсерах, в торпедах, в немецкой пунктуальности. И до сих пор он чувствовал себя неотделимой частью этого сложного механизма. Но оказалось, что все это — блеф; над армией и над ним тупо возвышалась еще одна сила, которая воплощена вот в этом штурмбаннфюрере с белой повязкой гестаповца на рукаве.
Допрос окончен. Ему бросают одежду:
— Одевайтесь.
Инструктор разбирает сверток обмундирования. Золотые шнуры оберста с мундира уже спороты. Пальцы дрожат, не могут нащупать пуговицу. Кто-то помогает ему натянуть штаны, толкает в спину:
— Быстрей, быстрей!..
Уже ночь. Горы чернеют на горизонте. Его сажают в машину, везут. Штурмбаннфюрер всовывает ему в рот сигарету, подносит к лицу зажигалку.
— Ну, — говорит он, — может, вспомним все-таки?
«О чем вспомнить? — пытался сосредоточиться фон Герделер. — Ах да!.. Этот „дарревский молодчик“ Отто Рихтер, прибывший в Финмаркен из Голландии. Я встречался с ним в Парккина-отеле… Кто еще был тогда?.. Кажется, командир противокатерной батареи с мыса Крестового… как зовут этого обер-лейтенанта?.. Фон… фон Эйрих…»
— Ну! — настаивает гестаповец. — Так, может, мы скажем честно, что получили задание от русской разведки начать разложение горноегерской армии?
— Я ни в чем не виноват, — отвечает фон Герделер. — Никаких заданий от Рихтера не получал… Произошла какая-то чудовищная ошибка…
Шофер в мундире эсэсовца говорит:
— Здесь! — И машина останавливается. Инструктора подхватывают за руки, его ноги волокутся по земле. «Все, — думает он, — конец», — и говорит:
— Послушайте, я умру, но совесть моя перед фюрером чиста. Я остаюсь верным слугой национал-социалистской партии.
— Браво, браво! — смеется штурмбаннфюрер и деловито распоряжается: — Вот к этой скале… повертывайтесь…
— Нет! — отвечает инструктор, прижимаясь к скале спиной. — Я приму смерть с открытым лицом!..
— Ну, валяйте, желаю вам оставить штаны сухими.
Автомашины с включенными фарами въезжают на площадку, и теперь четыре ярких луча, как прожекторы, сходятся на фон Герделере.
— По изменни-ку н-а-а-ции!.. — нараспев командует штурмбаннфюрер, и карабины нащупывают сердце инструктора, которое сжимается в груди от предчувствия пулевых уколов.
Гестаповец вдруг обрывает команду, подходит к нему.
— Спрашиваю последний раз, — говорит он, — от кого получали задание написать эту пораженческую статью?
Фон Герделер вскидывает руку в нацистском приветствии:
— Хайль Гитлер!
— Не будь дураком! Я отдаю команду «пли».
— Хайль Гитлер!
— Пли!
Инструктор почти явственно ощутил толчок пуль, но продолжал стоять, только одна мысль билась под черепом: «За что?.. За что?.. Разве я…»
Штурмбаннфюрер подходит снова:
— Послушайте, я шучу только один раз. Со второго залпа от вас полетят клочья.
— Хайль Гитлер!..
— Ну, ладно!.. Внимание… пли!
На этот раз, кажется, попали. Все тело разрывается на части.
«Но почему я не падаю?..»
Штурмбаннфюрер подходит и сталкивает его на землю:
— Лежи!..
Инструктор потерял сознание. Когда же очнулся — вокруг было пусто. Он понял, что машины уехали, оставив его одного в тундре. Вспомнив сцену расстрела, вяло подумал: «Пугали», — и поднялся на ноги.
На рассвете, проделав пешком несколько верст, инструктор пришел в Петсамо, где его уже ждал приказ:
«Оберст Хорст фон Герделер понижается в звании, как не справившийся со своими обязанностями, и переводится в разряд строевых офицеров…»
Двое
— Пи-ить… дай… воды…
И, когда она просила об этом, Мордвинов каждый раз переставал грести и с ненавистью оглядывал волнующийся простор океана.
«Где бы достать воды?.. Хоть каплю, одну лишь каплю!.. Не для меня — для нее!..»
— Пи-и-ить… пи-и-ить, — просила Варенька, с трудом разлепляя запекшиеся губы, а он сидел рядом с ней — тихий, сгорбленный — и ждал, когда она снова потеряет сознание. Потеряет сознание и хоть на время забудет, что на этом прекрасном свете, который она так любит, есть вода — вода живая, сверкающая, прохладная, чистая.
И, когда она забудет об этом, он опустит в воду, которую нельзя пить, свое широкое весло — снова начнет грести к невидимому берегу. Пусть уж лучше она лежит в беспамятстве, чем слышать ее постоянную просьбу «пи-и-ить», которую нельзя исполнить.
Но когда однажды над морем, почти касаясь волн, прошла грозовая туча, Мордвинов чуть не закричал от радости, почувствовав, как на его грудь вдруг упала прохладная капля. Он содрал с себя голландку, развернул ее в руках и поставил под нее пустую банку из-под консервов. Обильно хлынувший дождь застучал по парусине, собранной в виде воронки, и матрос молча смотрел расширенными глазами, как стекали, прыгая по жестяному донышку, капли.
Это была жизнь, и, что самое главное, не его жизнь, а — Вареньки!..
Когда дождь прошел, Варенька очнулась снова, и он, опережая ее просьбу, бросился к ней и крикнул:
— На!..
Он дал ей выпить все, до последней капли. И когда воды не стало, жажда, терзавшая его третьи сутки, стала уже непереносимой. Тогда он лег на борт плотика — начал глотать соленую, обжигающую внутренности горечь моря. Это не утолило его жажды, но само сознание того, что он все-таки пьет, на время приглушило мучительный жар в усталом теле…
Вареньке становилось хуже. Решетчатое днище плотика пропускало воду, и как Мордвинов ни старался, подкладывая под раненую брезент, ему все время приходилось менять на ней сырое белье, которое он тут же сушил на себе.
Порою ему казалось, что Варенька уже застывает от холода. Тогда он ложился на днище, прижимаясь к ней своим телом. Больная и беспомощная, она сделалась теперь для него доступнее и ближе.
Потом, точно вспомнив что-то, он вставал и снова решительно брался за свое коротенькое весло… А солнце день и ночь светило над морем…
Добравшись до берега, Мордвинов отыскал в одной бухте старинную постройку, в которой умер когда-то не известный миру русский человек Родион Евстихеев, и перенес в нее Вареньку.
Этот первый день, проведенный на берегу, он посвятил налаживанию своего маленького хозяйства. Спички, еще с утра разложенные на солнцепеке, загорались отлично. Скоро в древнем каменном очаге весело потрескивали ветки, чадил зеленым дымом ягель. А в консервной банке, заменявшей кастрюлю, уже варились крупные ярко-аквамариновые яйца кайр, голубоватые яйца гагар, которые Мордвинов достал на скалах птичьего базара.
«Что ж, жить можно», — думал матрос, но пища не радовала его, когда Варенька, измученная болью, почти умирающая, отказывалась от всего, что он ей предлагал, и только просила пить, пить, пить — просила так, словно все еще не могла избавиться от жажды. Мордвинов был на «Аскольде» лишь санитаром, да и то больше времени проводил на своей дальномерной площадке, нежели в лазарете, — чем он мог помочь ей?
«Умрет… Как страшно думать об этом! Вот жила, разговаривала, смеялась и вдруг — нет ничего, ни смеха ее, ни голоса, — смерть!..»
Поначалу он хотел развести костер, но потом подумал, что здесь пустынный район моря, куда редко заходят корабли, и решил поберечь плавник. Отправиться к югу на плотике, держась берегов, — это значило погубить себя и Вареньку, которая еще жива, еще дышит, еще… будет жить.
— Будет! — сказал он себе и, стиснув руками голову, весь вечер просидел возле очага, думал: «Что делать дальше?..» Плотик, на котором он добрался до берега, только носил название плотика, на самом же деле это был просто большой спасательный круг, только не пробковый, а резиновый, надутый воздухом; внутри него была укреплена круглая деревянная решетка, на которой мог лежать, поджавши ноги, лишь один человек. Вот Варенька и лежала на ней. Хорошо еще, что Мордвинов догадался подобрать тогда из воды сорванный взрывом с «Аскольда» обрывок парусинового тента; этот брезент он потом подкладывал под девушку, а то бы волны заливали ее все время. Хотя, чего уж там, от волн не спасешься, и случись на морс легкий шторм, плотик не успевал бы выныривать на гребень, волны задушили бы и его, и Вареньку…