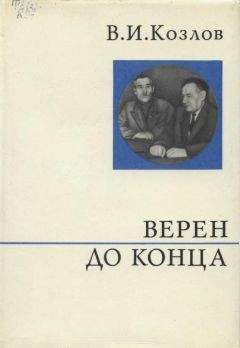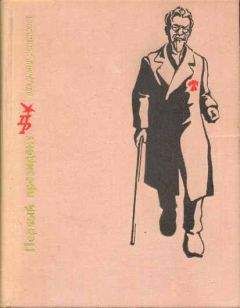В июне 1919 года на станцию Жлобин прибыл агитпоезд «Октябрьская революция». Тысячная толпа забила перрон: всем хотелось увидеть и услышать Михаила Ивановича Калинина, незадолго до этого избранного на пост председателя ВЦИК. Среди встречавших был молодой рабочий паренек в стоптанных солдатских сапогах, в пиджачишке с чужого плеча, Василий Козлов. Он жадно ловил каждое слово Михаила Ивановича — это говорила с ним его, народная власть. Несмотря на свою молодость, а минуло ему всего шестнадцать, был он в числе тех, кто горой стоял за Советскую власть…
Но если б тогда кто-нибудь сказал ему, что пройдут годы и его, всенародно уважаемого человека, изберут в родной Белоруссии на пост Председателя Президиума Верховного Совета республики, сделают своим «старостой», вряд ли принял бы он всерьез это пророчество, хотя уже тогда твердо знал, что перед трудовым людом широко распахнулись двери в новую жизнь и его, Василия Козлова, как и других, ждет в этой жизни много радостных неожиданностей.
Мужание его проходило вместе с мужанием страны. В то первое десятилетие, когда Советская власть становилась на ноги, ей крайне нужны были свои собственные специалисты, хозяйственные руководители. Их выдвигали из народа — самых преданных, самых энергичных, самых инициативных. Всего этого — преданности, энергии, инициативы — было в избытке у демобилизованного красноармейца Василия Козлова, вернувшегося после службы в армии в свои родные края. И вот первая ступенька: он инструктор райисполкома. А потом была учеба, не очень долгая, и долгие годы, когда он очень, очень много работал, забывая про сон, еду и отдых. Работал во имя того, чтобы людям, за которых он нес всю полноту ответственности, жилось лучше, богаче, интереснее. Такая работа, с полной отдачей душевных и физических сил, для коммуниста Василия Ивановича Козлова была естественна, органична. Это был его образ жизни, его неизменное состояние. И когда напали на страну фашисты, он, будучи секретарем Минского обкома КП(б)Б, просто, скромно делает еще один шаг — становится организатором и руководителем минского партийного подполья и партизанского движения в оккупированной врагом Белоруссии. И если до войны он уже снискал народное уважение за свою самоотверженность, бескомпромиссность, доброе, отзывчивое внимание к человеку, то борьба с фашистами сделала его поистине народным героем.
Несколько лет тому назад Издательство политической литературы задумало серию мемуаров «О жизни и о себе». К одному из первых издательство обратилось к Герою Советского Союза, Председателю Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, Заместителю Председателя Президиума Верховного Совета СССР Василию Ивановичу Козлову с просьбой рассказать читателям о своем жизненном пути. Издательство верило, что и пример самой жизни Василия Ивановича, и его богатый жизненный опыт представят огромный интерес.
Василий Иванович охотно согласился. Но, к сожалению, смерть помешала ему исполнить задуманное. Им была в основном закончена только первая часть мемуаров, рассказывающая о довоенных годах жизни.
Несмотря на то что эта часть рукописи могла бы быть издана самостоятельно, издательство все-таки решило представить жизненный путь В. И. Козлова с наибольшей полнотой. Для этого мы воспользовались ранее изданной книгой В. И. Козлова «Люди особого склада», в которой он повествует о партизанской борьбе на Минщине, о своих товарищах партизанах, взяв из нее то, что имеет непосредственное отношение к В. И. Козлову.
Так родилась эта книга «Верен до конца», которую, как мы надеемся, читатель прочтет с интересом.
Исполняя волю автора, издательство выражает глубокую признательность близким друзьям В. И. Козлова, оказавшим большую помощь в подготовке рукописи книги к изданию, — Г. М. Бойкачеву и Ф. Г. Михееву.
Первое яркое воспоминание — рассказы деда Трофима. — Иван-да-Марья. — Моя родная сторона.
Родился я в деревне Заградье. Деревню эту сейчас можно найти лишь на старых картах Белоруссии: в Отечественную войну фашистские захватчики стерли ее с лица земли. Она ничем не отличалась от соседних с нею деревень — Малевичей, Новиков, Кормы — и вместе с ними входила в Рогачевский уезд Могилевской губернии.
Раскинулось наше Заградье вдоль Екатерининского гужевого тракта, или, как его по-местному называли, Варшавского шляха, что от Жлобина тянулся на Бобруйск, оттуда на Минск и дальше в Польшу. Рядом со шляхом проходила Либаво-Роменская железная дорога, соединяющая Россию и Украину с Прибалтикой. Так что место было довольно бойкое: недалеко от деревеньки располагался железнодорожный разъезд № 22, теперь блокпост Малевичи, а верстах в шести — узловая станция Жлобин, с депо, мастерскими, с большим шумным местечком на берегу Днепра.
Дед мой Трофим Козлов отходничал. Весной, как только начиналось половодье, он на плотах уходил вниз по Днепру до златоглавого Киева. Иногда спускался и дальше, к Херсону, к самому гирлу. Пропадал обычно дед до глубокой осени. Мы, внуки, ожидали его возвращения с большим нетерпением.
Из своих дальних странствий дед Трофим возвращался лохматый, с продубленной солнцем и ветром кожей, в рванине, из которой выглядывала широкая крутая грудь, жилистые коричневые руки. От него пахло солью, рыбой, табаком, смолой. Обычно дед привозил мешок с таранью. Нас, мелюзгу, он всегда одаривал какими-нибудь гостинцами: или глиняной, покрытой глазурью свистулькой-«птичкой», или деревянной, расписанной золотыми цветами мисочкой, или дудкой. Привозил пряники, обсыпанные маком, длинные, похожие на свечи конфеты в грубых цветных обертках. То-то у нас было радости! Мы с упоением рылись в его холщовом мешке, и если под руку попадались заплесневелая горбушка хлеба или сухарь, то и они казались редкостным лакомством.
— Как мыши, прости господи, — глядя на нас, смеялась мать.
Перво-наперво дед Трофим шел париться в баню, мылся долго, переодевался в чистое, натягивал сапоги с подковками, а потом у него в избе гуляли. Вертелись, конечно, здесь и мы, дети.
Может быть, дороже всех гостинцев, сластей для нас были рассказы деда Трофима о дальних краях, которые он видел. Хмельно блестя смелыми озорными глазами, пуская облака дыма из трубки с камышовым мундштуком, дед рассказывал:
— Плывешь этак на плотах по Днепру, а ширь вокруг, степи — глазом не окинуть. День проходит, другой, неделя — и все им конца-краю нету. Простору много, а… тесно живут люди, землицы не хватает. Глядишь, все пашни межами исполосованы, и лишь где панские угодья, скатертью раскинулись колосящиеся хлеба.
— Точно, как у нас, — заметит кто-нибудь из мужиков. — У нас не пашня, а ремешки да заплатки, а у пана Цебржинского за неделю посевы не обойдешь.
А кто-нибудь добавит:
— Иль у попа Страдомского.
И снова всех заглушает громкий, хрипловатый голос деда Трофима:
— Везде одинаково живут те, кто гнет спину. Понаездился я, понавидался. Как наш белорус носит домотканые портки, так и хохол… да и русский тоже — все одно.
— В городах все же посытнее, — заметит кто-нибудь из гостей. — Кто хлебушек не сеет, тот его чаще жует.
Дед Трофим слушает, пускает дым из трубки. А потом опять заговорит, и все смолкнут:
— Города у хохлов большие, и живут в них знатно, это верно. Киев возьмите. Красоты такой — слов не хватит описать. На улицах каштан растет. Зацветет, будто свечки белые запылают. А уж духовитый! В магазинах чего только нету! Извозчики на дутых шинах так и жгут по улицам, только сторонись, не то задавят. Богато живут паны: и сладко едят и мягко спят. Дворец есть там гетманский, стражники стоят. Купола золотые Софии горят, как жар. Стены белые, стоит на бугре над Днепром, издали приметишь. Бого-мо-оль-це-ев! — дед зажмурится и покачает кудлатой головой. — Как овец в отаре. Случается, плывешь на плотах и видишь: гонят по степи отару и овце этой счету нету. Так и богомольцам. Особенно много их в Лавре. Иная старушонка еле ноги передвигает, а несет в Лавру последнюю копейку. Ну и монахов этих, тоже вам скажу, будто воронья. В черных рясах, рукава широкие, что твои крылья. И по двору снуют, и по пещерам, где мощи лежат, и по церквам. Да все гладкие, рыластые, брюхо, как мешок с овсом. Руки чисто у барынь: белые, пухлые. Думаешь: запрячь бы в плуг, так потянул бы лучше иного мерина.
Гости хохочут:
— Ну и дед! Вот тебе на том свете черти язык-то прижгут…
Старик усмехнется и продолжает рассказывать дальше: