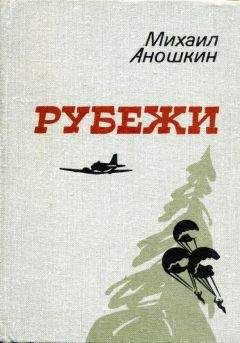Памяти
друзей,
не вернувшихся
с войны.
ОТКУДА МЫ ВЗЯЛИСЬ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Улица наша обыкновенная и все же непохожая на другие. Летом зеленеет полянами, на которых полыхает курослеп. Зимой задыхается от снежных сугробов. От одного дома до другого тропки-тоннели проложены. Взрослый идет, как по окопам. Мальчонка бежит, так его и не видно — одна шапка мелькает.
Дома добротные, из сосновых бревен скатанные, тесом покрытые, а то и железом. Деревьев нет, редко где к дому палисадник примыкает, а в нем кусты малины. Тянется улица от речки Кыштымки до заводского пруда километра три, не меньше. И все по косогорам. Перескакивает с одного на другой: то дома четной стороны карабкаются вверх, а нечетной остаются внизу, то наоборот.
Обитатели приречного конца не ведают, кто живет у пруда: косогоры мешают знакомству. Знают только знаменитых. Ну, скажем, жестянщика дядю Мишу Бессонова. К нему несут чинить железную утварь. Дядя Миша все залатает или новую вещь из жести смастерит. Он и лудить умеет.
Жили люди на улице ни шатко, ни валко. Работали кто где. Дружили с ближними соседями да с родней знались. А родня и в Верхнем, и в Нижнем Кыштыме.
Улица распадалась на деляночки-околодки. Нашу деляночку обрезала с озерной стороны улица Аркадия Романова, а с речной — Бориса Швейкина.
На деляночке с четной стороны плотно прижались друг к другу боками восемь домов, а по нечетной вольготно разместились три дома. И то сказать, нечетная сторона окнами на север смотрит, солнышко туда заглядывает редко. А радостно, когда оно в окна-то заглядывает, особо в студеный зимний день или в чахлое осеннее утро.
В нашем околодке как раз и жил дядя Миша Бессонов.
Осенью картошку в огородах выкопают, морковь и всякий овощ уберут и открывается раздолье для нас, ребятишек. Земля, мягкая после копки, одуряюще пахнет прелью. Кругом ворохи картофельной ботвы, за которыми хорошо прятаться, когда в войну играешь. На грядках, если постараться, можно найти неубранные морковки, а они всегда слаще тех, которые дома лежат.
Возле бань буреет конопля. Сорви макушку, пошелуши в ладонях — останутся маленькие зернышки, сероватые такие. На зубах похрустывают. До чего вкусные!
На огородах играли в войну, в прятки. Носимся, носимся, но нет-нет да прислушаемся. И явственно: тук, тук, тук. То дядя Миша в избенке своей бьет по железу и наковаленке молотком. Избенка вроде флигеля. Там у него мастерская.
Утром проснешься — тишина. А в ней отчетливо — тук, тук, тук. Уже не спит дядя Миша.
Вечером намотаешься, еле до постели дотянешь. А за окном — тук, тук, тук. Дядя Миша на отдых еще не собирается.
Напротив нашего дома голубел ставнями трехоконник дяди Васи Куклева. Хозяин с незапамятных времен служил на механическом заводе: в конторе скрипел пером. На весь околодок один служащий. И прозвали Куклевых Писарями, а еще проще — Писачкиными. Не в обиду, а уважительно — грамотей.
Детей у Куклевых было много — несколько девок и два парня. Младшего звали Иваном, старше меня лет на шесть. С уличными парнями он почти не якшался. Его вообще редко и видели. Поступил в институт и надолго исчез из Кыштыма. Наведывался только в каникулы. Это было, конечно, здорово — парень из нашего околодка учится на инженера! Отродясь здесь такого не бывало. До семи классов, да и то не все добирались. Устраивались на заводы — либо чугун лить, либо медь плавить, либо токарить.
Кыштым безвестным не назовешь, хотя и не на каждой карте он обозначен. Родился с бунтарским характером. Только-только сбросил пеленки, а уже прошумел пугачевщиной. Чуток окреп, заявил о себе восстанием работных людей — Косолаповским. О нем и в учебниках можно прочесть. Потом шумел-гудел, не принимая царские «милости» по манифесту об отмене крепостного права. В первую русскую революцию смело всколыхнул красное знамя свободы. Хотя до баррикад не дошло, но страху на царских сатрапов нагнал изрядно. Не зря же они потом, собравшись с силами, жестоко расправились с кыштымскими большевиками. Многих тогда угнали в Сибирь на вечное поселение. В Октябрьскую революцию и гражданскую войну много кыштымского люда полегло за советскую власть.
В муках рождалась новая жизнь. Двинулся народ на великие стройки — жгли костры у горы Магнитной, копали котлованы на восточной окраине Челябинска, штурмовали Днепр.
А в Кыштыме в те годы тишь да гладь были. Дремали могучие камыши на Плесо и Травакуле. Хранили угрюмое молчание горы Сугомак и Егоза. Дымил медеэлектролитный завод — медь плавил, а на Верхнем чугун лили, как и при царе-кесаре. Ни шатко, ни валко брело по Кыштыму время.
Но вот однажды на нашей улочке появились землекопы. Трое. Один с кайлом, два — с совковыми лопатами. Принялись копать яму. Мы окружили их, мешали работать. Колька Глазков, по-уличному просто Глазок, спросил:
— Дядь, вы кого зароете в яму-то?
Тот, который орудовал кайлом, сделал свирепые глаза и страшно зашевелил усами:
— Тебя!
Затем ямку выкопали возле нашего дома, а третью на горке, напротив дома, в котором жил с родителями Колька Глазков.
На другой день приволокли сосновые, начисто ошкуренные столбы, пропитанные с одного конца какой-то желто-ядовитой чертовщиной, — к каждой ямке по столбу. Появились те же трое, ловко установили в ямках столбы, засыпали и утрамбовали. И вся улица радостно заахала, заохала. Еще бы! Протянут монтеры медные провода — и долой керосиновые лампы. Электричество-то для Кыштыма не в диковинку. Медеэлектролитный завод, который построили в одиннадцатом году, работал на электричестве, а на Верхнем заводе газогенераторная электрическая станция появилась в первом году нашего столетия. Но чтоб электрический свет провести в каждый дом, — это казалось фантазией. Никто и мечтать не смел. А тут хочешь — пиши заявление, и в доме загорится лампочка Ильича. А все потому, что в Челябинске построили электростанцию.
Моя бабушка долго стояла перед иконами, советовалась с богом — ладно ли это, электричество? Отец заявление сразу написал, а бабушка все никак не могла решить — можно или нельзя? Бабушка была неграмотной и богомольной. Когда я чересчур вольничал, она осуждающе качала головой и строго выговаривала:
— Минь, кол тесать на твоей голове? Сказано — угомонись!
— Да я, баб, ничего.
— Как это ничего? Кто кошку за хвост тягал? Ванька-дурачок? А пшено кто рассыпал? Якуня-Ваня? Квас разлил? Боря Кулявый? Вот я тебя!
— Чего уж ты его так? — бывало, заступится отец. — В ежовых-то рукавицах?
— Не в ежовых, а грех это. Грех хулиганить. Боженька-то, он все видит, все примечает. Вот, ты думаешь, пряник в шкафе возьму, никто меня не увидит. Мы-то, может, не увидим, а бог все видит. И в книжечку записывает.
— В какую, баб?
— У него на каждого книжечка есть. С левой стороны добро пишется, а с правой — зло.
Бабушку хотели охватить ликбезом. Молоденькая краснощекая учителка приходила, агитировала научиться хотя бы расписываться. Но бабушка рукой махнула:
— Ладно уж выдумывать. Век живу без грамоты. Не стану бога гневить.
И отказалась.
Бабушка всегда жаловалась, что у нее опухают ноги, но к врачам никогда не обращалась. Лечилась своими средствами. Разыскивала в лесу муравейник, засовывала в него пустую бутылку. Муравьи набивались туда по самое горлышко. Потом готовила муравьиную настойку, которой мазала ноги. Самым, пожалуй, удивительным было то, что она никогда не сидела дома. Запросто могла со старухами-богомолками пешком махнуть в Касли, а это километров двадцать с гаком. Там была церковь какого-то святого, одна такая на всю округу. Да и ходили обыденкой: утром раненько уйдут, а вечером явятся обратно. Потом, во время войны, я убедился, что молодые и крепкие солдаты такие походы едва выдерживали. Видно, у старух была своя закалка.
Летом бабушку из леса канатом не вытащишь — все грибы и ягоды ее. Уходила чуть свет. Оденет длиннополый сарафан, краюшку хлеба вместе с комышками сахара завернет в большой ситцевый платок и повяжется им, как пояском. Возьмет плетеную корзину (четвертную, как у нас говорили, — в четверть ведра), в нее бросит эмалированную кружку. Такие назывались набирушками: в них собирали ягоды. Когда наполнялась до краев, ягоды высыпали в корзину. Ноги обует в чуни — резиновые галоши: и легкие, и непромокаемые (можно по болотам шастать), и износу нет. И змея не укусит.
Когда я подрос, стала брать с собой и меня. Бывало, будит:
— Минь, а Минь, хватит дрыхать! Айда по ягоды.