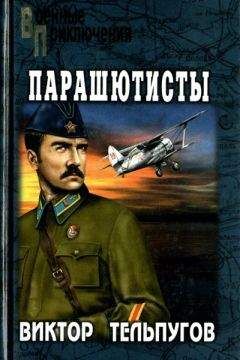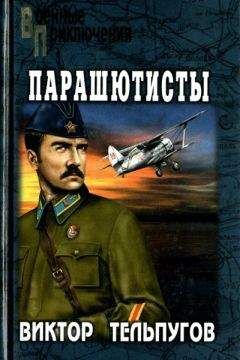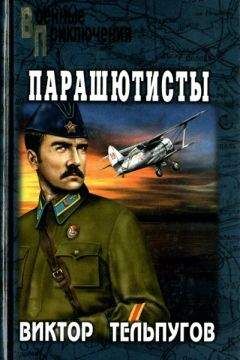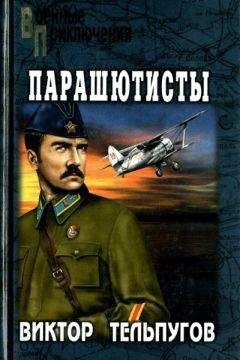Виктор Тельпугов.
Ничего не случилось…
Повесть
Под тяжелым осенним дождем, в плащ-палатках с низко надвинутыми жесткими капюшонами, они быстро шли к самолету. Холодная ночь пахла прелой травой и бензином. Сергей Слободкин на ходу жадно ловил эти запахи, полные для него особого значения. Кончалась, вернее, кончилась его временная цивильная жизнь, и теперь, уже по «второму заходу», начиналась снова боевая, к которой так рвался после ранения. Рвался сперва из госпиталя, потом с авиационного завода, потом с комсомольской работы в Москве. В результате долгих мытарств просьба его удовлетворена, он включен в состав группы для выполнения задания в тылу противника.
Конечно, группа — не родная десантная рота, с которой пройдено столько дорог. Теперь «рога» будет поменьше, всего из трех человек составилась, но подразделение боеспособное вполне. Взять хотя бы старшого, Плужникова. Успел тоже на фронте побывать. Ранен, прыгал с парашютом, и даже не один раз. Некоторыми навыками десантника овладел в парашютном кружке второй участник группы — Николай Евдокушин. В боях, правда, не участвовал, но зато «зажигалки» на крышах Москвы тушил, а это школа, и еще какая! Кроме того, успел стать хорошим радистом, что и сыграло решающую роль при назначении Николая в группу.
О нем, Слободкине, и говорить нечего. Отведал свинца и огня в самые первые дни войны, фронтового опыта накопил — на всех троих хватит в случае чего. Словом, с заданием они справятся, чего бы это ни стоило, хотя собирались спешно, не успев толком продумать всех деталей операции и даже поближе познакомиться друг с другом. Многого не успели. Обмозговать бы спокойно втроем еще раз все предстоящее, да где там! Второпях с друзьями из главного комсомольского штаба на Маросейке не успели попрощаться как следует. Но его, Слободкина, вины в том не было, как не было вообще ничьей вины. Война есть война. Крутит-вертит любым человеком, как хочет…
Обо всем этом думал Слободкин, то натыкаясь на идущего впереди Плужникова, то чувствуя, как наступает ему самому на пятки шагавший след в след Евдокушин. Мысли эти не оставили Сергея и тогда, когда он со всем своим скарбом опустился на указанное ему кем-то место в темном чреве самолета. Освобождаясь от навьюченных грузов, Слободкин больно ударился обо что-то твердое. Вытянутые вперед руки наткнулись на ребристую металлическую стойку. Нащупав в ней знакомые овальные вырезы, обрадовался — группе «подан» не какой-нибудь устаревший драндулет, а самолет, напоминавший тот, с которого приходилось прыгать в воздушно-десантной бригаде. Впрочем, радость была короткой. Скоро Сергей помрачнел. Как только оторвались от земли, чутким ухом уловил зловещее погромыхиванье дюраля. Все таки драндулет! Огонь, воду и все прочее прошел. Изрешечен небось вдоль и поперек. И не небось, а точно. Вон как в правой плоскости завывает, да и в левой, кажись. И в хвосте, где турель, пожалуй, не меньше дыр. И клана на стучат. Так вот, значит, какую технику «выколотил» для группы Гаврусев, вот на какой посудине суждено добираться…
Чтобы разбавить мрачные думы более оптимистичными, Слободкин настойчиво старался вернуться к главному, к тому, что все-таки осуществилась, черт возьми, заветная его мечта — руки снова сжимают автомат, плечи облегают лямки парашюта. Теперь важно не подкачать, не ударить лицом в грязь, хотя бросать их будут чуть ли не в трясину какую-то. И с тяжелой поклажей в ранцах и в грузовом парашюте. А там радиопричиндалы, боеприпасы, медикаменты, тушенка…
Рассуждая так, Сергей казался самому себе вдруг похожим на летчика, который медленно, но верно укрощал тяжелый, видавший виды корабль, сперва дребезжавший всем корпусом, потом помаленьку приумолкший, словно понявший, что задача его не греметь дюралем и двигателем, а терпеливо и тихо, как можно более тихо нести свою ношу туда, где ее ждут нынешней, специально выбранной ненастной ночью.
Сергей постепенно совладал с собой, унял нервишки, в последнее время все чаще пошаливавшие. Его даже начало клонить ко сну. Так иногда бывает перед сложным делом. Сложным, опасным и ответственным. Он ощутил это сейчас с особой отчетливостью. Там, на инструктаже, все куда проще выглядело. Острый карандашик Гаврусева уверенно прочертил на сине-зелено-желтой расстеленной на столе карте длинную, неправдоподобно ровную прямую.
— Вам надо, — сказал, — попасть вот сюда. Здесь партизанский отряд. Ждут вас, предупреждены. Огни должны быть выложены в самый последний момент. Осторожность нужна — и даже сверхосторожность. В ней успех всей операции.
Гаврусев помолчал, повертел карандашиком в квадрате, обозначенном как сильно пересеченная, заболоченная местность, спокойно, подчеркнуто спокойно добавил:
— Или провал…
Теперь, когда самолет, несший на борту группу, глубоко ввинтился в беспросветно темное месиво неба. Сергей, впадая в полудрему, все возвращался и возвращался к напутственным словам Гаврусева — полным уверенности и тревоги одновременно.
…Враг стремится выловить и разгромить партизан, у которых на исходе боеприпасы — раз, медикаменты — два, харчишки — три, неисправна радиоаппаратура — четыре. На связь выходят с большим трудом, точнее, почти не выходят: батареи сели, к тому же что то случилось с радистом. Есть среди партизан больные и раненые. Но отряд пока держится, совершает налеты на немецкие обозы, часто по лесам и болотам переходит с места на место, чтобы запутать врага. Но пятачок у партизан, в общем то не велик, особо не наманеврируешься.
Карандашик Гаврусева снова и снова нацеливался в уже знакомый квадрат карты.
— Вот и все, собственно. Вся ситуация…
Беспокойно было на душе у Слободкина от той «ситуации». Какая-то неопределенность: «где-то здесь», «огни должны быть выложены», «на связь почти не выходят». Тут действительно недалеко от провала. Прямее надо было Гаврусеву обо всем ребятам сказать, честнее. Разве не поняли бы?
Та же мысль волновала, конечно, и остальных. Старшого в первую очередь. Не случайно у него даже завязалась перепалка с Гаврусевым во время одного из инструктажей.
— Сколько партизан в отряде? — спросил Плужников.
Гаврусев ответил, что последними точными данными не располагает, а врать не хочет.
— А неточными? Сто? Двести? — не унимался старшой.
В вопросах его была настойчивость человека, понимавшего, что на него возлагается особая ответственность за судьбу людей, к которым они летят на выручку.
Гаврусев от прямого ответа опять уклонился:
— Леса, болота, потери… Одно известно совершенно определенно — отряд сформирован в основном из комсомольцев, а комсомол — народ живучий, будут, значит, держаться до последнего.
— Что верно, то верно! — вырвалось у Плужникова. — Но не мешало бы иметь более подробные сведения.
— Не спорю, не мешало бы, — согласился Гаврусев. — Но связь в последнее время длится не минуты — секунды. Вы меня понимаете? Се-кун-ды! Успевают передать только самое важное…
Плужников продолжал наседать на Гаврусева:
— Разве не важно, сколько человек в отряде? Второстепенный вопрос? — черные, разлатые брови старшого насупились.
Гаврусев постарался погасить эту вспышку:
— Молодец, Плужников! Так нам и надо, замороченным.
Он помолчал, потом добавил не без раздражения:
— Только у нас таких отрядов знаешь сколько?
— Сколько? — не унимался Плужников.
В этом вопросе звучал явный укор. Не знаете, мол, вы и этого, Гаврусев, я же вижу, не знаете. Так и сказали бы. А то «леса, болота, потери»…
Гаврусев намек понял, вынужден был согласиться с Плужниковым:
— В точности неизвестно. Думаю, и на самом верху того не ведают.
— На самом верху могут и не ведать, а тем, кто пониже, «ведать» не мешало бы, — рубанул Плужников и, кажется, сам испугался своей резкости.
Слободкин же был в восторге от выпаленного старшим. С хорошим человеком свела его судьба. С прямым и открытым. С таким можно куда хочешь двинуть. Ничего плохого не думал он и о Гаврусеве. Просто задавлен грузом свалившихся на него забот. Только успевай поворачиваться. Но работяга из работяг. В столице на Маросейке, в главном комсомольском штабе страны, все видят, как он вкалывает, не зная покоя ни днем, ни ночью. Слободкин сам тому свидетель.
Евдокушин, во время всей этой сцены помалкивавший, был, как показалось Сергею, на стороне Плужникова.
Пройдя через фронт, через ранения, навалявшись в госпитале, намерзшись за токарным станком в стылом цехе эвакуированного завода, наголодавшись после потери хлебных карточек, Сергей научился мерить людей своей особой меркой. Человек, по его разумению, должен обладать двумя основными качествами: быть честным по отношению к себе и к другим, иметь запас прочности. Глаз у него был наметан, умел за короткий срок определить, с кем можно пойти в разведку, с кем нет. С Плужниковым можно, без всяких оговорок. Без каких-либо скидок годен и Евдокушин, еще не испытавший на себе столько, сколько они с Плужниковым хлебнули, но, судя по всему, парень что надо, хотя и не проявивший еще характера. Да и где было проявить? На крыше горящего дома? Под зажигалками? В парашютном кружке? Плужников не любил рассказывать о себе, но мог бы рассказать о том, как прыгал с парашютом в боевых условиях. Евдокушин же сам над собою подшучивал: «Два прыжка у меня. И то — с вышки. Страшное это дело, откровенно скажу. Только в случае крайней необходимости и сиганешь». За короткое их знакомство Слободкин установил — и Евдокушин из тех парней, которые не любят высовываться, стараются держаться в тени. Это Сергею тоже было по нраву. Бывают такие люди, думал он о Николае, — тихие, незаметные. Но придет пора, грянет час…