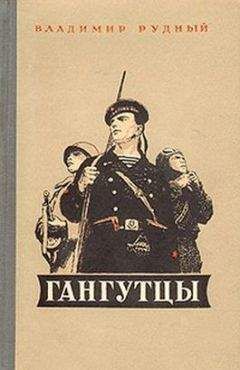Владимир Александрович Рудный
Гангутцы
Глава первая
Десант на лед
В ночь на двенадцатое марта тысяча девятьсот сорокового года одинокая «эмка», скудно светя синими фарами, перебиралась по льду залива из Кронштадта в Ораниенбаум.
Пассажир то и дело открывал скрипучую дверцу, чтобы увидеть хоть отблеск далекого сражения. Но тьма поглощала все за пределами фиолетового луча, пляшущего на снегу впереди машины. Колючий ветер врывался в кабину. Шофер ворчал:
— Обморозитесь, товарищ бригадный комиссар.
— Какой там мороз — весна! — вздыхая, отвечал пассажир, но все же послушно захлопывал дверцу.
Шофер вел машину по наезженной ледовой колее. Местами дорогу замело. Сугробы вырастали мгновенно, ветер передвигал их, как барханы в пустыне.
Объезжая сугроб, шофер сбился со следа. Впереди, в дрожащем свете фар, внезапно навис над машиной ледяной столб, похожий на сталактит. Шофер резко затормозил. Он выскочил из кабины и пошел искать дорогу.
Всхлипывая, работал мотор. Снег хлестал по промерзшим стеклам, оседал на капоте, но не успевал растаять — ветер сметал его прочь.
Шофер вернулся седой от снега.
— Не езда — каторга! — приговаривал он, выводя машину на дорогу. — Весь залив на брюхе исползал, пока нашел… Как Маннергейма с линии сшибли — никто за дорогой не присмотрит. А бывало ночью — машина за машиной…
— Последняя ночь, — утешил шофера пассажир.
— Дадут им напоследок?
— Дадут. Жарко будет…
— Даром что мороз на сорок градусов! — Шофер рассмеялся, но тут же, рванув на себя тормоз, выругался и снова отправился искать дорогу.
И опять пассажир остался один в лихорадочно вздрагивающей машине, — ветер, вьюга, тьма.
Сколько событий, сколько перемен произошло за эту ночь, за один только последний час!
Час назад комиссара эскадры Балтийского флота Арсения Расскина срочно вызвали в штаб флота. В этой же машине он мчался по улицам Кронштадта, точно так же открывал на ходу скрипучую дверцу и прислушивался, — он знал, что ночью армия должна штурмовать Выборг. Иногда за шумом вьюги ему слышался гул, точно раскаты артиллерийского боя. Это гудел лед, стиснутый в гавани злыми мартовскими ветрами. Но комиссару хотелось верить, что он слышит бой, он торопил шофера, боялся опоздать в штаб. «Уж не десант ли предстоит? — размышлял Расскин. — Не с этим ли связан вызов к командующему флотом?..» Он понимал, впрочем, что никакого корабельного десанта не может быть, пока залив во льдах. Льды настолько тяжелые в эту зиму, что они сковали не только весь Финский залив до самого устья, но даже пролив Роггервик в Палдиски, где размещена по договору с буржуазной Эстонией часть подводных лодок и эсминцев Балтийского флота; там флоту удалось все же воевать и зимой, хотя блокада морских коммуникаций противника потребовала от корабельных экипажей поистине героического труда. Но здесь, под Кронштадтом, что мог здесь сделать флот, запертый льдами?! Тут и в мягкие зимы флот превращается в сухопутные крепости с круговой обороной — не зря каждый год матросы вместе с армейцами разучивают одну и ту же задачу: отражение возможного противника, атакующего Кронштадт и его форты танками и бронемашинами со льда. Двадцать два километра от корабля или от форта до границы — так живет флот уже два десятилетия. Может быть, теперь, в эту ночь, армия возьмет не только Выборг, но продвинется дальше и на Хельсинском направлении, закрепит предполье и безопасность флота на материке?.. Расскин понимал, что флоту в этом участвовать не придется: когда вскроется залив, армия все закончит сама, обойдется без кораблей, зажатых в Маркизовой луже. Вызов к комфлоту может быть связан с тысячью причин, но в одном был уверен Расскин: куда-то придется срочно ехать или лететь…
В приемной штаба флота на втором этаже адъютант командующего шепнул: «Мир», — и Расскин не вошел, а вбежал в кабинет командующего. «Мир, Владимир Филиппович», — одним духом выпалил он, забыв вопреки порядку и обычаю даже доложить командующему о своем прибытии, но адмирал Трибуц, очевидно, сам настолько был взволнован, что не придал этому значения и только пожал обеими руками руку комиссару эскадры, подтвердив: «Да, мир, Москва известила нас — мир!» Так в одно мгновение изменился весь строй мыслей Расскина, все направление его дальнейшей жизни. Содержание мирного договора еще не знали, но адмирал сказал, что договор уже подписан в Кремле. «Поплаваем теперь, Арсений Львович. Выйдем из нашей лужицы на простор. Поезжайте скорее в Ленинград, в Смольный, там все узнаете!..» Прямо из штаба Расскин поехал по ледовой дороге через залив к южному берегу.
И вот он сидел в кабине «эмки», ежился в своем холодном кожаном пальто, ждал и ждал шофера… В такую ночь, как ни спеши, быстрее через залив не проедешь…
Он вглядывался в едва освещённые мертвым светом фар сугробы, ледяные холмы, ропаки, пытаясь угадать — природой они созданы или руками матросов. Весь Кронштадт и все форты окольцованы в эту зиму подобными нагромождениями, и только сами вахтенные боевого охранения могут определить, где их дот, секрет, пулеметное гнездо, а где, просто налезла глыба на глыбу. Весна растопит эту линию обороны, и кто потом, какой летописец узнает, вспомнит о бессонных вахтах на льду в жестокую зиму сорокового года, — все теперь поглощено одним емким словом — мир!..
У южного берега, мигнув фонариком, машину остановил матросский патруль. Луч света скользнул по лицу шофера, задержался на согнутой в тесной кабине фигуре комиссара эскадры и погас, патрульные поспешно козырнули, пропуская «эмку» на материк.
Машина помчалась по прибрежному шоссе.
Все во тьме. Не видно корабельных огней на заливе, огней Кронштадта, фортов, огней далекого Ленинграда. Завтра берег засияет вновь.
Расскин представил себе завтрашнее ночное небо в праздничных огнях. На всю ночь, до самой зари, багровые отсветы большого города окрасят небо, замельтешат сигнальные фонари на вмерзших в лед кораблях, а над Кроншлотом и на дальней Шепелевской башне замигает слепящий глаз маяка.
После Смольного надо обязательно заехать домой, обрадовать жену вестью о мире. Обрадовать — и снова огорчить?.. Она, скиталица, жена военного человека, не зная ему доступных сводок, тайн, секретов, вечно ждет и потому острее чувствует приближение большой войны, она всегда молча и с укором выслушивает его утешения, беспомощные объяснения — «еще отсрочка», «Гитлеру связали руки пактом»; он и сам не верит ни пакту с фашистами, ни их обещаниям, но понимает, что каждый день и час мира — это выигрыш в неизбежном будущем сражении против того же Гитлера или против тех, кто ведет с ним эту «странную войну», тая надежду столкнуть его с нами. Пожалуй, сколько Расскин себя помнит — всегда нам угрожали войной, и всякий раз страна добивалась мира — мира с оружием в руках: КВЖД, Хасан, Халхин-Гол, Испания, куда его так и не пустили, не вняв рапортам; и вот теперь эта линия Маннергейма, которая оказалась созданием, а значит, и плацдармом всей Европы, сокрушена, но дорогой ценой, большой кровью. Каждый нормальный человек рад миру, только надолго ли этот мир и представится ли в ближайшее время другой такой случай побывать дома…
За зиму он только раз побывал в Ленинграде — это случилось больше месяца назад, да и то ночью. Тогда он тоже спешил в Смольный, но внезапно свернул на Петроградскую сторону, жены дома не было; он не стал даже будить сына и помчался на другой край города — в военный госпиталь на Васильевский: жена там дежурила возле раненых и обмороженных — их было много в эту свирепую зиму. Потом за месяц он ни разу не смог позвонить домой. Вернувшись с фронта в Кронштадт, он послал с матросом записку. Жена, вероятно, смеялась его легкомысленному обещанию: «Кончится война — поедем на Кавказ». Почему-то не в Крым, не в родную Керчь, а на Кавказ, он всегда сулил ей этот Кавказ — и на Тихом океане, и на Балтике. После первого курса академии он тоже собирался ехать на Кавказ, но отправился в очередной шлюпочный поход по Волге и Дону. С тех пор стоило ему заговорить о курорте, жена отмахивалась. Они и года не прожили вместе не разлучаясь. А сегодня Расскин уже чувствовал: снова предстоит разлука. Он знал — в Смольный вызывают неспроста, новое назначение. Только куда? В Хельсинки? В Выборг? Или на Черное море, на юг, которому опять угрожают интервенцией англичане? Конечно, попугивают, подбадривают Маннергейма, но не исключен и такой маневр, отвлекающий все наши силы на юг. Всю зиму англичане твердят о нападении на Батуми и на Баку — так, может быть, на Каспий?..
Расскин всегда испытывал душевный подъем, когда попадал в Смольный. Точно такое же чувство он пережил однажды на палубе «Авроры», когда впервые увидел орудие, из которого в Октябрьскую ночь стреляли матросы. Длинные гулкие коридоры Смольного были памятны ему по фильмам революции. Он не мог пройти по ним спокойно, по-деловому, как шел по коридорам штабов или других учреждений: ведь здесь работал Ленин.