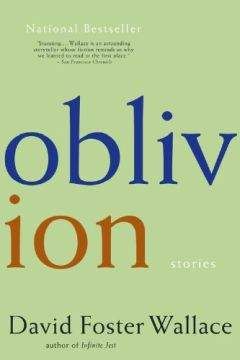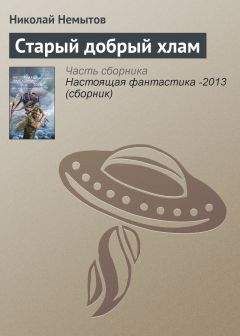Как-то однажды Рэма подбежала к идущей колонне, протянула бойцу букетик цветов. Тот взял, улыбнулся ей пересохшими губами, сказал отрывисто:
— Водички бы вынесла. С утра не пили…
Ну, конечно, воды! Такая жара стоит. Подгорная улица пришла в движение. Все бросились за ведрами, кружками, кувшинами. У водопроводной колонки сразу же выстроилась очередь.
С полным ведром, держа на весу большую фаянсовую кружку, Рэма бежала вдоль колонны, надеясь догнать того бойца с ее букетиком.
— Ладно, сестричка! — крикнули ей. — Напои нас, а его другие напоят!
Рэма торопливо черпала кружкой.
— Пейте, мы еще принесем…
Бойцы пили жадно на ходу, расплескивая воду; протягивали котелки:
— Плесни-ка на запас!
— Подтяни-и-сь! — летела над строем команда. — Не отставать!.. Шире шаг!..
Война шла Подгорной улицей. Суровая, запыленная, усталая война с пересохшими от жары губами.
* * *
Все реже и реже стали появляться во дворе с тремя акациями разносчики. Разве что забредет продавец зелени или, стуча копытцами, протрусит по двору ослик с плетеными корзинами на спине. В корзинах яблоки, мацони, кукурузная мука, бургули[11].
Узнав дену, хозяйки охают и хором принимаются ругать разносчика, а тот, размахивая руками, оправдывается:
— Ва! А вы что думали? Сейчас деньги другую цену знают. Война, что, не слышала, да?
Один лишь ослик сохраняет полное спокойствие, стоит, поводит ушами, как будто слушает, и нет ему никакого дела до того, сумеет ли его хозяин убедить разбушевавшихся покупательниц.
Изредка заходил во двор стекольщик.
— С-секла ставлять!..
Но стекла теперь были заклеены широкими бумажными полосками и если и бились, то не до конца, просто ползли по ним трещины в разные стороны, и никто не обращал на это особого внимания.
Покричит стекольщик свое «Секла ставлять!», напьется воды из колонки и пойдет себе дальше.
И лишь женщина в черном платье по-прежнему приходила во двор с сумрачным скрипачом и пела, глядя на верхние этажи дома. Только теперь им не бросали уже завернутую в бумажки мелочь. Кому она нужна — мелочь. Выносили кто горстку фасоли, кто кусок кукурузного хлеба или пару вареных картофелин.
— Хорошая музыка, — слегка пошатываясь, говорил Никагосов. — Кто понимает, все так скажут. Не то что эти две ведьмы на рояле своем: бам-бах-бух! — Он кивал в сторону флигеля. — Э, дорогая! Спасибо, что красиво поешь. Возьми от меня в подарок, как от поэта, с чистым сердцем даю. Да здравствуют артисты!..
— У нее еще довольно сохранившееся, вполне профессиональное контральто, — волновалась бывшая актриса Мак-Валуа. — А она поет на улице зимой, так ведь вконец можно загубить голос!
Женщина в черном платье пела теперь не старые, всеми забытые романсы, а песни о войне.
— В тоске и тревоге, не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег…
— Вполне возможно, что у нее сын где-то… как и племянники мои милые… — вздыхала Мак-Валуа.
Мак-Валуа руководила агитбригадой в Ивином юнармейском полку. Репетировала скетчи, учила декламировать стихи и исполнять куплеты.
— Нет, радость моя, нет! Надо держаться раскованнее, легче, — втолковывала она. — Непринужденность и еще раз непринужденность! Но только не развязность. Вот, Рома, ты держишься несколько развязно. Ну что за жесты! Ах, Рома, Рома! Это так несценично! Ни на секунду нельзя забывать — ты на публике. Публика перед тобой. Публика! Посмотри, как делает Рэма…
Рэма делала, конечно, здорово. Во-первых, она не распевала дурацкие песенки, как делал это Ромка, а исполняла настоящие песни из новых боевых киносборников. И аккомпанировала себе на аккордеоне. Аккордеон был небольшой, но замечательный: белые клавиши, все вокруг выложено перламутром, ремень из красной кожи на суконной подкладке и буквы золотом: «Рондо». Это ей тетка подарила.
— Для такого ребенка разве что жалко? — говорила та соседям. — Единственная племянница, сплошной талант в девочке, из нее же народная артистка выйдет, вот увидите…
В одно из дежурств Ива долго не мог разыскать Ордынского, которому дважды звонили из сануправления фронта.
Наконец он нашел его в приемном покое. Ордынский, нетерпеливо похлопывая по ладони свернутой в трубку историей болезни, слушал, что докладывает ему начальник отделения.
— Понимаете, Варлам Александрович, этот артист драпанул с долечки. Доставлен к нам комендатурой. И не желает ни с кем разговаривать, требует только главного врача, безобразие какое-то!
— Фамилия! — резко бросил Ордынский, и только тут Ива увидел стоящего в стороне рослого моряка.
— Старшина второй статьи Иван Каноныкин! Ранение обеих голеней, — он подтянул вверх потрепанные клеши; под ними были гипсовые повязки, потемневшие, в желтых разводах. — Состояние отличное, товарищ военврач второго ранга, зря меня сюда.
— Помолчите! — оборвал его Ордынский. Он поднес к окну черные полупрозрачные рентгеновские снимки, глянул их на свет. — Когда вам их делали?
— Месяца полтора назад, товарищ военврач. Как только в госпиталь попал после медсанбата.
— А когда заделали «окна» в гипсе?
— Как только заросло все. Мясо на моряке быстро нарастает, товарищ военврач. Вот кость — это дело долгое, она…
— Вы замолчите?
— Есть замолчать!
Ордынский все рассматривал снимки. Белые полоски костей, раздробленные осколками, находили одна на другую. Ива никогда не видел рентгеновских снимков. Давно, еще в четвертом классе, его просвечивали. Но там ничего не было видно, он просто стоял в темноте за холодной стеклянной доской и то дышал, то поднимал руки и поворачивался.
— Да, — сказал Ордынский, — все ясно, кроме одного: как вам только, Каноныкин, при таком ранении не оттяпали обе ноги? Повезло вам, повезло.
— Я полагаю, Варлам Александрович, — начал было начальник отделения, — что контрольный снимок дал бы нам возможность посмотреть, как идет срастание, каково состояние костной мозоли…
— Будет вам! — отмахнулся Ордынский. — Если дел мало, сыщу дополнительные. Через месяц снимем гипс и откомандируем этого бегуна в действующую. Все!
— Может, сговоримся на пару недель пораньше, товарищ военврач? Немец вон как прет.
— Помолчите, Каноныкин!
— Есть помолчать!
— Тебе что? — спросил Ордынский, заметив Иву.
— Звонили из сануправления, товарищ военврач второго ранга! Приказано разыскать вас. Номер телефона я записал. — Ива протянул клочок бумаги. — Разрешите идти?
Ордынский не ответил. Взяв бумажку, быстро вышел из палаты. За ним, пожимая плечами и обиженно пыхтя, заспешил начальник отделения…
За считанные дни Каноныкин перезнакомился со всеми в госпитале. И с юнармейцами тоже.
— Слушай, тезка, — сказал он как-то Иве, — а где дружок-то твой? Чернявый такой, с кучеряшками.
— Ромка?
— Точно, Ромка.
— Его из Юнармии отчислили. Временно, пока плохие отметки не исправит.
— А много у него отметок этих плохих?
— Четыре.
— Эх ты! Долго ждать придется. Он мне одно дело провернуть взялся. Глядишь, сделал уже, а хода ему в госпиталь теперь нет, ситуация, елки-палки.
— Какое дело?
— Секрет, тезка. Но тебе скажу. Робу гражданскую раздобыть надо, чтобы в город мотаться. А то вот сидим тут, морпехота, как кочета в пустом курятнике. Скучно, так ведь?
— Наверное, — согласился Ива.
— Но в подштанниках-то на свидание не пойдешь. — В палате рассмеялись. — Срам один получится, тезка, точно?
— Точно.
— Так вот, взялся твой дружок, который с плохими отметками, помочь, и нет его. Наладь связь, за нами не пропадет, морпехота трепаться не любит.
— Хорошо. Я скажу ему сегодня же.
— Только, тезка, без ля-ля, ладно? Ша и точка! Сам понимаешь — дисциплина; прознает начальство, заметет это дело и поставит нас всех на мертвый прикол. И будет еще скучнее, хоть мы люди и веселые…
В тот же вечер Ива нашел Ромку и передал ему все, о чем говорил Каноныкин. Ромка сразу же начал отпираться:
— Ты что говоришь?! Какой моряк?! Что я ему обещал? Отвяжись от меня!
Но Ива не отвязывался, и Ромка вынужден был сознаться:
— Ну обещал. А тебе какое дело?
— Обещал, значит, сделать надо.
— Ты кто такой, что мне приказываешь?
Разговор получился бестолковый. Ромка то отнекивался, то старался переменить тему, то даже пытался убежать. В общем, Ива понял, что Ромка хочет сам выполнить ответственное поручение моряка и обойтись в этом деле без помощников.
— Человек понадеялся на тебя, а ты…
— Что я?! Я все сделал, — Ромка сплюнул, посмотрел на Иву исподлобья. — Ты с Минасиком сто лет делал бы. А я раз-два, и готово. Две тысячи надо.
— Две тысячи?!
— Ва! А ты что думал — два рубля? Пиджак будет, брюки будут коверкотовые, плащ, рубашка с галстуком и даже кепка. Ботинки у него свои есть. Между прочим, очень приличные вещи я достал и по дешевке.