— А зачем это?
— А вот сейчас объясню. Я хоть и уговариваю вас отпустить Сурай учиться петь, а у самой-то, по правде сказать, не очень-то спокойно на сердце. Всё думается:
«А ну как ошибаюсь, и Сурай не такое уж чудо, как мне кажется. Нельзя же так легкомысленно решать судьбу девочки. Надо хорошо проверить её способности, посоветоваться с умными людьми. А потом уж решать. Верно я говорю?.. Ну вот! А в Ашхабад съедутся девушки со всей республики, будут петь в театре, и Сурай споёт. Её послушают знаменитые, лучшие наши певцы и певицы, люди из министерства и скажут откровенно — хорошо ли, плохо ли она поёт. Если плохо, так мы уж забудем все эти пустые разговоры, и пусть Сурай учится в пединституте, а если скажут, что ей надо учиться петь, я думаю, вы и сами не захотите лишать счастья свою дочь. Я знаю, вас многое пугает сейчас, а бояться-то нечего. Вот мы с вами поедем, вы сами посмотрите своими глазами на певцов и певиц, увидите, что они такие же люди, как мы с вами, и успокоитесь, не будете зря мучить себя и Сурай. Вы давно не были в Ашхабаде?
— Ой, давно! Когда Аман ещё там учился.
И Дурсун задумалась. Прямота, искренность Екатерины Павловны покорили её, и она впервые не столько поняла, сколько почувствовала, что всё, что говорила сейчас эта женщина, не пустые слова, а что-то большое и важное. Ведь вот даже министерство просит привезти Сурай… Может быть, и прав Вели-ага, когда говорил ей, что она ничего-то не знает и судит обо всём, как он судил когда-то о куске сахара.
— Ну, что ж вы скажете, Дурсун?
— Ах, уж и не знаю, что и сказать! Мне и надо бы поехать в Ашхабад… Вот в прошлое воскресенье Гозель купили на базаре хорошее платье. А в Ашхабаде-то, говорят, дешевле и лучше можно купить. А то Сурай-то завидно..
— Ну, это-то мы купим, — улыбнулась Екатерина Павловна и, повернувшись в сторону двора, крикнула — Ты слышала, Сурай, о чём мы сейчас говорили?
— Всё слышала! — весело откликнулась девушка и с большой деревянной ложкой в руках подбежала к веранде.
— Поедешь с нами?
— Ну конечно, Екатерина Павловна! И я так буду петь, что меня сразу же оставят в Ашхабаде! Вот увидите…
— Ах, боже мой! А как же Анкар-то? — вдруг вырвалось из груди Дурсун. Но она сейчас же спохватилась и виновато и жалко посмотрела на смутившуюся Сурай.
Екатерина Павловна заметила это и спросила:
— А кто этот Анкар? Уж не завёлся ли у тебя женишок, Сурай? Что ж ты от меня скрываешь?
— Завёлся, Екатерина Павловна, — краснея, а вместе с тем смело и весело ответила Сурай.
— И что ж, он не хочет, чтоб ты училась петь?
— Ой, нет, Екатерина Павловна! Напротив… Он сам меня сейчас уговаривал, чтоб я непременно ехала учиться петь, а он меня будет ждать хоть всю жизнь. А я ему говорю: «Нет, мне маму жалко!..»
— Ах, моя милая, да с таким женихом тебя надо вдвойне поздравить.
И Екатерина Павловна подошла к Сурай, обняла и крепко поцеловала.
— Будь счастлива, моя голубка!.. Да показала бы ты мне своего женишка-то.
— Ой, Екатерина Павловна, да я сама его всего три раз видела, как он приехал. Он всё время в поле. Он старший агроном МТС и заочно учится в аспирантуре…
— Ну, Дурсун, вам радоваться надо, а вы опять чего-то призадумались.
— Ай, да как же не призадуматься? — проговорила Дурсун и, чтоб скрыть своё волнение, торопливо пошла к костру.
После обеда, когда спала жара, Дурсун и Сурай проводили Екатерину Павловну: Дурсун до конца сада, а Сурай почти до самого города.
По дороге девушка простодушно и в смешном уже виде рассказала Екатерине Павловне, как она мучилась последние дни, какие надежды возлагала на Вели-агу и как чуть не возненавидела Анкара и особенно его мать Умсагюль, тогда как они очень хорошие люди.
— А ты вот что, моя милая, — сказал Екатерина Павловна, — попридержи пока своё сердечко. Не очень увлекайся своим Анкаром, хоть он и очень хороший человек. Как бы нам с тобой не осрамиться в Ашхабаде. Ты уж теперь каждый день приходи ко мне по утрам. Будем серьёзно с тобой заниматься. А вечерами всё-таки готовься… Певице, кроме хорошего голоса и музыкальности, надо иметь ещё и хорошие нервы. Со мной в консерватории училась одна девушка. Чудесный у неё был голос. А как выйдет на сцену, увидит перед собой множество людей, заволнуется, оробеет и запоёт бог знает что. Так, бедняжка, и бросила учиться. Как бы и с тобой не случилось… Ты ещё ни разу не выступала перед народом…
— Как не выступала? Я и забыла вам сказать. Мы сегодня, я, Гозель, Байрам и Мурад, выступали на колхозном стане. Народу много-много было, две бригады. Я сначала очень волновалась, а потом запела, и сразу весь страх прошёл. И как хорошо было, Екатерина Павловна! Нам так аплодировали и так благодарили!.. Особенно один старик. Я чуть не заплакала, когда он подошёл ко мне и похвалил меня!..
— Ну, это очень хорошо!.. Только, моя милая, в Ашхабаде-то тебя будут слушать не колхозники, а такие специалисты, что ты только рот раскроешь, а они уж могут сказать — певчая ты птичка или серый воробушек.
— Нет, Екатерина Павловна, колхозники тоже понимают. Они Гозель-то не так аплодировали, как мне.
— Ах ты моя хвастушка! — засмеялась Екатерина Павловна. — Я вижу, мы с тобой не пропадём и вернёмся из Ашхабада с победой. Жду тебя завтра! Приходи непременно.
Сурай простилась с Екатериной Павловной и повернула назад, домой. Она шла среди зелёных полей, любовалась простором, огромным, как жизнь, и на душе у неё было спокойно и радостно.
Через неделю вечером Дурсун одна бродила по аллеям ашхабадского парка культуры и отдыха, залитым ярким светом фонарей.
Она уже заходила сюда, когда приезжала к Аману. Но тогда была зима. Все дорожки были усыпаны жёлтыми листьями. Сквозные голые деревья уныло чернели в небе. Скамейки свалены под навесом в одну кучу, и всюду было безлюдно и тихо.
А теперь здесь кипела жизнь среди ярких цветников и буйно разросшейся зелени. По аллеям сплошным пёстрым потоком шли молодые, пожилые, старые люди и на скамейках тесно сидели плечом к плечу.
Шарканье ног, говор, смех сливались с плавными волнующими звуками духового оркестра. На одной площадке играли в волейбол, на другой в ярком свете кружились девушки и юноши в лёгком танце,
Всё это производило на Дурсун чарующее впечатление. Она ходила, смотрела, и у неё такое было чувство, как будто она попала в волшебную сказку. Вот она, жизнь, в которую так стремится её Сурай! Всё здесь удивляло и восхищало Дурсун, а вместе с тем ей грустно стало немного оттого, что она никого не знала и всем она чужая, никто-то не замечал её, как будто её тут и не было.
Наконец она устала и присела на скамейку перед фонтаном, любуясь серебристыми струями, которые взлетали вверх и рассыпались бисером, и падали с лёгким плеском в широкий бассейн. Потом задумалась о себе, о Сурай и не заметила, как пролетело время.
«Ай, боже мой! Как бы не опоздать!» — вдруг встрепенулась она и спросила молодого человека, сидевшею с ней рядом:
— А который же теперь час?
Было уже четверть девятого, и Дурсун торопливо пошла к Летнему театру, где у входа её уже должна была поджидать Екатерина Павловна.
У дверей театра стояла большая толпа. Одни курили, другие то и дело спрашивали проходивших в театр: «Нет ли у вас лишнего билета?»; третьи, вытянув шеи, посматривали вдаль, поверх толпы, видимо поджидая кого-то. А Екатерины Павловны не было.
Почти тотчас же зазвенел звонок. Курильщики побросали окурки и, беспорядочно толпясь, повалили в зал. Дурсун заволновалась:
— Ах, боже мой! Да где же она? Неужели я опоздала?
Но вот, когда схлынула немного толпа, из театра вышла Екатерина Павловна — озабоченная, строгая, ища глазами Дурсун.
— Где же вы пропали? Я за вами уже третий раз выхожу, — отрывисто, недовольным тоном сказала она, взяла Дурсун под руку и повела в зал.
Сцена была ещё закрыта огромным занавесом красного бархата, переливавшимся волнами то золотистого, то тёмно-багрового пламени. Перед сценой длинными рядами, возвышавшимися один над другим, сидело множество народу, а вверху в тёмном небе светились звёзды.
Екатерина Павловна усадила Дурсун в третьем ряду, где не все ещё места были заняты, и сейчас же ушла к Сурай за кулисы.
Театр гудел, как все театры перед началом спектакля или концерта. Дурсун смотрела на занавес, по сторонам, оглянувшись назад, увидела перед собой множество лиц, и ей страшно вдруг стало за дочь.
«Да как же она, такая простушка из села, будет петь перед таким народом? Вот отчаянная голова! А ну как все начнут смеяться над ней?.. Ай, боже мой!..»
И она с тоской посмотрела на занавес, за которым где-то там волновалась бедняжка Сурай, и опять оглянулась, и тут привлёк её внимание высокий, плотный седой мужчина в белом пиджаке с поблёскивавшим золотым значком на груди. Он неторопливо и важно шёл от двери между рядами, чуть улыбался и кланялся кому-то то направо, то налево. Его, видимо, знал весь город. Вот он подошёл к третьему ряду, посмотрел на билет и сел рядом с Дурсун.
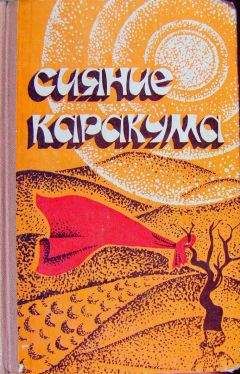
![Екатерина Дмитриева - Александр I, Мария Павловна, Елизавета Алексеевна: Переписка из трех углов (1804–1826). Дневник [Марии Павловны] 1805–1808 годов](https://cdn.my-library.info/books/227994/227994.jpg)



