Ее встряхнул Георгиевск, приземистый городок, показавшийся ей больше деревянным, чем каменным. Гитлеровцы набили дровяные сараи городка бутылями, на этикетках которых по-русски красовалось: «Спирт». Жители пили сами и угощали воинов-освободителей, а через два-три дня сотни некрашеных гробов повезли к кладбищу Георгиевска. Спирт был метиловый, древесный, не спирт, а яд.
Под январским снегом, негустым в здешних краях, у госпиталя вытянулась очередь людей, терявших зрение. И все от того же зелья, выпитого на радостях.
Что она вдруг поняла, столкнувшись с ними? Что нельзя опускать руки в какой угодно беде? Что, если можешь помогать другим, и себе помоги? Что если погибать, так уж не зря? А может, ничего отчетливого и не было, а вот очнулась — и все, потому что удары людского горя непременно будят других? И штабник не забыл о ней.
Провожая Асю, начальник госпиталя пригладил свою седую шевелюру и негромко сказал:
— Ну, не поминай лихом... Хотя куда тебе от этого деться?
В весенних разливах грязи за Краснодаром Ася отыскала батальон и доложила о прибытии.
— Из госпитальной тишины на передний край? Ох, какая лихая! Это мне по душе! — приветствовал ее комбат.
Так она и попала из огня да в полымя.
Она все скажет Зотову сама. С любовью надо быть чистой. И прости-прощай эта любовь, которой она не просила и не ждала.
До крупной «сушки», где разместился штаб полка, полоска дороги в камышах была месивом из воды и грязи. По этой полоске, чмокая сапогами, двое солдат тащили носилки с Пышкиным, и тот не открывал глаз, снова был без сознания, но дышал. Ася часто проверяла, догоняя носилки, вытирала Пышкину лоб и мячики побледневших щек, из которых одна была кроваво рассечена. Однажды она сделала Пышкину укол кофеина, как велел военфельдшер, когда показалось, что сердце у раненого остановилось, не вынеся этой дороги, по которой даже кухни сюда не добирались.
Поначалу, еще весной, три грузовика, спутав плавни с распутицей, ринулись вперед напропалую, но превратились, и то ненадолго, лишь в площадки для передышки, где можно было посидеть подносчикам, взвалившим на свои горбы боезапас и термосы с едой. Какое-то время проторчали под солнцем три кузова с откинутыми бортами, так опустившись в топь, что и залезать не надо, просто присаживайся и кури, но после первого же майского ливня не стало видно ни кузовов, ни даже крыш кабин. И подносчики устраивали короткие перекуры на ходу.
Солдаты тащили Пышкина, не отдыхая.
В районе полкового медпункта Асю ждала подвода. Стало меньше не только гнилых испарений, в которых таяла земля, но даже и комаров, различимых теперь поодиночке. А ведь там они отовсюду сыпались на тебя крупой. На ветру, не процеженном камышами, даже высохла гимнастерка. А там, в плавнях, одежда, напитавшаяся парами, сухой не бывала.
В станицу, казалось, въедут, едва отгорит закат, но прибыли далеко за полночь, на отвердевшей дороге ездовой удерживал коней от торопливого шага: берег Пышкина. Сдала его Ася в медсанбат живого, он стонал, когда снимали с подводы, но ни слова так и не сказал. Романенко через военфельдшера передал Асе, чтобы расспросила об Агееве и Марасуле. Кого? И как?
Асе скорее захотелось увидеть Зотова, и она сказала ездовому:
— Теперь можно и подогнать!
Двор слепого старика она знала, там жил комбат в сарайчике, затиснутом в угол и полном запаха здешних луговых цветов, лезущего во все щели. Она отыскала двор по кроватной спинке, заменявшей калитку. Ни дома, ни сарайчика не было — все сгорело, Ася поняла это, когда прошлась по золе. Слепого старика тоже не было. Но из темноты вдруг спросил голос, прозвучавший с соседнего крыльца:
— Кто там шастает?
И хотя голос звучал ворчливо, будто сонный хуторянин выбрался на ступени, Ася сразу узнала его и откликнулась:
— Это я, Лаврухин!
И голос тотчас стал ласковым:
— Панкова! Здорово! — И уже подходя, поинтересовался: — Что у нас там нового?
— Агеева убили.
— Ё-моё!
— И Марасула.
— Вместе? Где?
— В разведке.
— Хоть бы уж скорее твердая земля...
— Будто там убивать не будут!
— А все же! Проводить к нашим?
— Нет! — вдруг запротестовала Ася. — Помоги ездовому, чтобы в канаву не завернул. И забери его с собой. А я тут переночую, во дворе, на подводе. Жарко.
— Тепло, конечно, — согласился Лаврухин.
— А где они?
— Лейтенант?
— Нет, все. В доме?
— Тут их нет. Наши дальше. А я бревна караулю, вон, на золе. Заготовили. Завтра шабашим.
Почему же она отказалась от немедленной встречи с Зотовым? Свернувшись калачиком под плащ-палаткой и уложив пол голову ватник, который принес ей заботливый Лаврухин, она долго не могла объяснить чувства, похожего на испуг, хотя потом поняла: ближе встреча, ближе и разлука, встреча — на минуты, а разлука — навсегда, вот и не торопилась. Понять нетрудно, если упростить. Надо все безжалостно и бесстрашно упрощать.
Недавно укоряла про себя комбата за то, что он часто и быстро говорит: «Понятно». А он и прав. Все проще, чем мы выдумываем. Какая еще любовь? Откуда он ее взял, этот мальчик? Ася и правда чувствовала себя старше Зотова и уже понимала, что на свете все проще. Думая так, Ася становилась сильней, ближе к привычной отрешенности от немыслимых и ненужных забот, от всего, что мешало делать свое дело, есть и спать. В госпитале, а потом и на земле, называемой полем боя, Асю учили за всем видеть жизнь, пахнущую теплом, хлебом и обязательно радостями. И за последними глотками воздуха, который втягивали в себя раненые, умирая на ее руках, и за обугленным камнем домов, от многих из которых остались лишь печные трубы, покрытые языками копоти, и за обгорелыми вишнями, которые когда-то цвели невинными белыми лепестками.
Эта жизнь была лишь в воображении, а воображение уставало, как устала сегодня она сама.
Разбудила Асю заря, которая на стыке воды со степью была голубей, чем всюду.
Ася сама взнуздала коней, чему весело научилась девчонкой во время поездок с песнями на уборочную, и пустила своих отдохнувших сивок чуть ли не галопом по станичным улицам. Через полчаса подвода была завалена лекарствами, пакетами и бинтами в мешках. Неожиданно ее охватила злость на самое себя. Она делала все, чтобы оттянуть встречу с Зотовым, а ничего не могла сделать. Деваться некуда. А если не встречаться, и все? Да, не встречаться! Поехала!
— Куда спешишь? — спросил Лаврухин, когда она попросила разбудить ездового.
— Домой.
— Одну не пустим. Не! Вдруг застрянешь и будешь маяться, пока помогут. С нами поедешь.
— У меня ездовой!
— Дай ему поспать. И коней не гоняй. Наши далеконько, но не так уж, чтоб ехать. Сейчас попросим посмотреть за твоим грузом и — шагом арш!
Если бы не Лаврухин, она и впрямь уехала бы. Ни за что не пришла бы сюда. Почерневшие стены дома, на котором, видно, когда-то густо селились птицы, едва держались, а крыши не было вовсе. Поэтому и гнезда, прилепившиеся к верхним бревнам стен, обнажились. На задворках косилась сараюшка, точь-в-точь как у слепого старика. И возле сараюшки странное дерево, словно запакованное в сухую корку с трещинками, тем не мене развесило вокруг себя пучки мелких листьев.
— Там, — показал Лаврухин.
Всю дорогу она пыталась вызвать в себе ненависть к этому лейтенанту — за ложь, за неуместную правду, чтобы найти хоть какую-то опору, определить свое отношение к нему, но пришла еще больше растерянной. Тронула и рванула дверь сараюшки. Думалось, как все косые двери, и эта отойдет лишь чуточку, а она вся распахнулась и оставила Асю у порожка высвеченной утренним солнцем. Зотов, протиравший лохматой тряпкой сапоги, распрямился и ахнул, вернее, глаза его ахнули.
Он считал себя человеком, принимающим решения один раз, и не вслушивался в разговоры, возникавшие иногда, но краем уха невольно улавливал что-то об Асе и комбате. Много о Романенко говорить не рисковали. Но и это казалось ему сплетнями, выдумкой. Почему? Наверно, потому, что так было легче.
Мама ему сказала как-то перед выпускным вечером в школе:
— Ну вот, Паша, ты выходишь в жизнь.
— Помолись за меня. Ты ведь, как все мамы, беспокоишься: как-то она встретит твоего сыночка, эта самая жизнь, которую взрослые слишком часто называют проклятой.
— Не смейся, — попросила мама. — Приготовься к тому, Паша, что далеко не все будет так, как представляется.
— А как?
— Труднее. Жизнь обманет не раз. И не раз будет доводить тебя до отчаяния. Но это вовсе не обман.
— А что?
— Жизнь.
Может быть, он не хотел верить в разные слова об Асе и Романенко потому, что ставил его себе в пример и даже восхищался им? А может быть, ты все еще мальчишка, Павел Зотов? Вдруг Ася сама сказала о комбате, и тогда созрело решение: «Прощай, Ася!» Это было самое страшное — живому человеку сказать: «Прощай!»
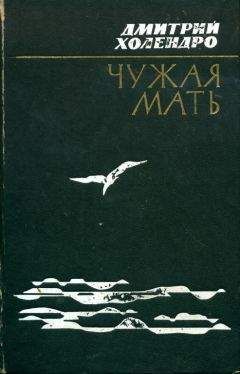

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/262305/262305.jpg)


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149595/149595.jpg)