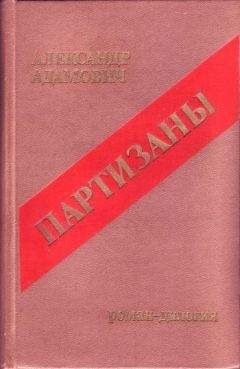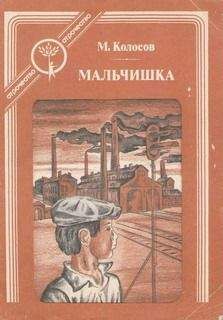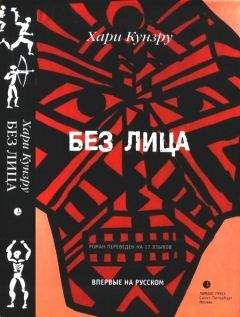– Заходите, дедушка, как раз картофельные драники заделала.
Мама теперь готовит завтраки и обеды в больших чугунах и кастрюлях: и на таких, как этот дед.
Дед все не входит, в темных сенях по-молодому блестят веселые глаза. Мама, раскрасневшаяся у печки, встревоженно обрадованно всматривается в лицо незнакомца.
– Входите, никого чужого.
– А она гостеприимна, как всегда. Все еще не узнаете? А я не раз переступал этот порог.
И вот незнакомец уже сидит на диване, и видно, что отдыхает не только ногами и спиной, но и лицом: складки тупой усталости и безразличия, которые так старили его, когда он шел через двор, разгладились. Несмотря на черную, окладистую бороду, лицо его, оказывается, совсем под стать молодым веселым глазам.
Бородач поднялся и стал рассматривать фотографию отца. Ему известно, что отец успел эвакуироваться из Бобруйска, а потом из Гомеля вместе с аэродромом. Почему не уехал, как остался: он сам – не говорит.
Мама поведала незнакомцу тревожную семейную тайну:
– Тут прошел слух, что Ваню немцы казнили. Есть такой Пуговицын, так ему его шурин сказал – он из плена прибежал, – что сам видел, как… Я ходила к тому Захарке. Будто бы Ваня немецких офицеров отравил, они его и… Но я не верю этому Захарке.
– Да, в голод намрутся, а в войну наврутся.
И Толя не верит. Но когда пошли разговоры, и мама по ночам тихонько плакала, он тоже глотал слезы, отвернувшись к стенке, чтобы брат не слышал.
Чернобородый вдруг спросил:
– Захарка – это фамилия? Помнится мне такая. А тот – Пуговицын? Гм…
– Захарка на спиртзаводе фельдшером работал, а Пуговицын был тут в поселке заведующим заводским складом, а теперь в полиции.
Чернобородый незнакомец промолчал, потом промолвил:
– Время, что и говорить. Знаю только, что Иван из тех, кто крошатся, но не гнутся.
Такие разговоры про отца заставляют Толю внутренне дрожать от гордости за него и от какой-то запоздалой, виноватой нежности к отцу. Но слухам про отравленных офицеров и про расправу над отцом и он не верит. Не верит потому, что вообще не может представить его в плену – опустившимся, жадно-голодным, избиваемым. Нет, у него сразу бы вспыхнули бешенством глаза, и все было бы кончено. Как мог бы он войти в доверие к тем офицерам: ни ловчить, ни приспосабливаться он никогда не умел! И в большом и в малом отец всегда был одинаков.
В Толино воспоминание прорвался голос незнакомца:
– Помню я этого Захарку и, кажется, Пуговицына. Не верьте ни единому их слову. Ваня знал… Помните, у него были неприятности. Я тогда еще в райисполкоме работал, и у меня про Ваню спрашивали.
– Вот оно что! – протяжно проговорила мама. – Ваня мне и говорил, что заявление писали двое. А кто – не сказал.
Папа был очень мягок с людьми: «голубка», «голубчик». Но он мог быть и неожиданно резким. Однажды Толя повстречался ему на базарной площади. Папе нравилось бывать на людях с Алексеем или Толей. Маме он говорил:
– Ты посмотри на них – догоняют уже батьку!
Дома это было еще терпимо. Но не на базаре же мериться! Толя, смущенный и сердитый, вывернулся из-под руки отца и постарался поскорее отойти с ним от товарищей. Как всегда при врачебном обходе поселка, в руке у отца была глянцевитая палка, которую он в такт ходьбе перекидывал через руку, будто дорогу вымеривая. У сельмага отца остановил бритоголовый Пуговицын. Было заметно, что он сильно угостился: круглые глаза его выражали попеременно то пьяное умиление, то беспричинную обиду. Насаженная на тонкую шею, по-птичьи вынесенная вперед голова его описывала весьма заметный круг, но ноги стояли крепко. Пуговицын стал невразумительно благодарить отца за то, что он, Пуговицын, ходит по земле, хотя мог бы удобрять ее собой, не будь в поселке такого врача. (Пуговицын перед этим тяжело болел.) Морщась, отец сказал:
– Хорошо, голубчик, живи здоровенький. Поспи пойди.
И повернулся уходить.
– А-а, я, значит, пьяница? А ты? Женушка кто у тебя? Из кулачков… То-то же! Думаешь, не знают… люди?
Отец круто обернулся, глаза у него страшно остановились. Пуговицын, сразу протрезвевший, отшатнулся от поднятой палки. Забыв про Толю, отец быстро пошел прочь.
Женщины, которые толпились у базарных рядов, не поняли, что произошло, но они знали врача и потому дружно набросились на Пуговицына:
– Залил очи.
– Надо же, до того человека довел, что палкой, как от собаки…
– Мало доктор к тебе бегал?
Но женщины тоже были смущены. Чтобы Корзун, который к больному чуть ли не в белье среди ночи спешит, мог вот так, палкой?
– Подумаешь, цаца! – отбиваясь от слов женщин, крикнул Пуговицын. Но лицо его выражало совершенно трезвую растерянность.
Все это промелькнуло у Толи перед глазами, пока незнакомец изучал фотографии, а мама готовила ему поесть. Меньше всего Толя мог думать, что именно в этой комнате он еще увидит Пуговицына, вот так же рассматривающего папин портрет.
Слушая веселого незнакомца, мама и сама будто вернулась в довоенное. Как-то очень молодо улыбается, в голосе звучит чистая, звонкая струна. Кажется, вот-вот откроется дверь и войдет приехавший на воскресенье отец…
Но Толя хорошо помнит, какое теперь время, и не отходит от окна. Чернобородый заметил это и понимающе подмигнул Толе, заставив его покраснеть от удовольствия. Толя был уверен, что он охраняет не совсем обычного окруженца. За последнее время пришлось ему видеть немало людей, напоминавших о довоенном, о том, что ушло, отступило на восток. Однако те люди были лишь осколками чего-то дорогого, но растоптанного. А в этом незнакомце все было иным, и сам он будто прямо пришел из прежней жизни, и все в нем говорило о довоенном, как о чем-то существующем, и не только там, на востоке, существующем, но и здесь, везде, где есть наши люди. Человек не произносил ободряющих слов, но его спокойное и слегка ироническое отношение к немцам, которые столько дней обдавали его пылью, весело-синие глаза, в которых таился намек на то, о чем говорить нельзя и нет нужды, – все это возбуждало восторг и чувство влюбленности, которое Толя легко дарит людям волевым, сильным и обязательно замкнутым.
Прощаясь, гость сказал маме:
– Не будем терять из виду друг друга. Я еще надеюсь посидеть за этим столом с Иваном Иосифовичем. О медикаментах договорились. Берегите себя и детей.
Мама вышла за ним в сени. Вернувшись, увидела сияющее лицо младшего и многозначительное, нахмуренное – Алексея. Сказала, как о чем-то совершившемся:
– Ну, вот…
– Я его помню, – вдруг заявил Алексей. – На машине из города все приезжал. Денисов? Он?
В один из летних дней появилась мамина младшая сестра с Павлом – мужем. Она росла вместе с Толей и Алексеем, и потому они всегда называли ее просто Маней.
Переступив порог, Маня беззвучно заплакала, худенькое веснушчатое личико ее по-детски беспомощно перекосилось.
– Оленька утонула.
– Ой, что вы! – испуганно воскликнула мама. – Как же это вы?
– Мост был подпилен, а наша подвода первой шла, пока добежали, достали… – объяснял Павел.
– Это он все, эвакуироваться, ехать…
– Ну побили бы нас дома, – быковато насупившись, отстаивал свою правоту муж.
– Мы все живем, а Оленька…
– Еще неизвестно, что будет, – с ненужной настойчивостью продолжал возражать муж. Подвижные желваки и крючковатый нос выдают в нем упрямца.
Мама с упреком оборвала его:
– Перестань, Павел.
Потом тихо сказала, видимо, про свое, затаенное:
– Неизвестно, где убережешь.
– Правду говорите, милочка, – подхватила соседка Любовь Карповна, которая первая увидела гостей и зашла вместе с ними. В каком-то горестном упоении она пропела: – Еще, может, мертвым завидовать придется, как в старых книгах сказано. Бог знает, где мой Витя теперь. Сколько этих эрапланов сгорело!
Слеза повисла на щеке у женщины, прозрачная, крупная, похожая на ее граненые стеклянные бусы.
– Сходила и я два разика в город, – продолжала в какой-то лишь ей понятной связи Любовь Карповна, – думала, возьму что на этих складах. Люди же целый месяц тянули. Семечек только и принесла, да сахарку немножко, мокрого, с песком. Там такого наслышалась и навиделась, не доведи господь…
Маня и Павел поместились в зале. Семья собиралась, росла. И так было не только у Корзунов. Многие семьи стали больше, чем до войны. Люди гибли, но и крыш становилось меньше.
Мама, казалось, вся ушла в заботы о том, как прокормить восемь человек. Сразу увидели, какое это богатство для семьи – корова. В лесу теперь столько пастухов, сколько в поселке коров, каждый за своей ходит. Домашним пастухом сделался и Толя. Они вдвоем с Минькой хозяйничают в лесу. Тут им и прежде не было скучно, а теперь в лесу не только гнезда и грибы. На каждом шагу можно набрести на снаряд, мину, промасленную накидку, патронные подсумки. Глазастый грибник Минька и тут удачливее: обе винтовки – его находка. Толя слишком уходит в себя, как только остается наедине с лесом. Он начинает вслушиваться в тревожное гудение затерянной в лесу асфальтки, рисует радостные картины: вот он подходит к дороге, а там уже наши танки, его останавливают красноармейцы, расспрашивают про поселок, про немцев…