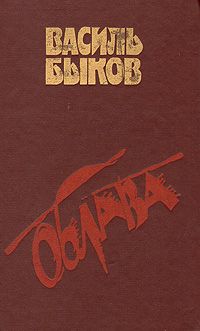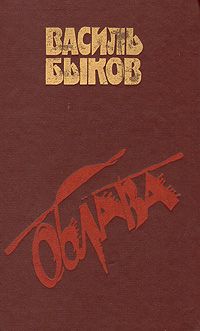Хведор так растерялся от этих бессовестных слов, что ее нашелся что ответить. Казалось, он уже достаточно насмотрелся на всяческую человеческую подлость, но такой не видел. Вечером, когда они прошли трудную Устюжную мель, об угрозе Роговцева он рассказал бригадиру, думал, бригадир заступится, отчитает наглеца. Но Кузнецов только насупился и сказал: «Этот все может». «Так что же мне делать?» — растерянно спросил Хведор. И Кузнецов, сверкнув на него строгим взглядом, ответил: «Появятся чужие — прячь дочку». «Где же тут спрячешь на плоту?» — искренне изумился Хведор. «А под плотом и спрячешь», — бросил бригадир и зашагал себе по скользким бревнам на корму к стерновому. Хведор стоял, не зная, всерьез это или, может, в издевку. Только постепенно до его сознания дошло: а и правда, можно ведь спрятаться в воде, за плотом. Олечка уже научилась неплохо плавать, будет держаться за бревно, авось не утонет. Тревожило только одно: лето было на исходе, вода с каждым днем холодала, они на плотах уже перестали купаться, только умывались по утрам. Утра становились совсем холодными.
Кто знает, исполнил ли свою угрозу этот Роговцев, но вот как-то на плот для проверки спрыгнул вохровец из районной комендатуры. Была как раз остановка плотов перед Усысвинсквм перекатом. Случалось, вохровцы наведывались для проверки и прежде, но проверяли больше для вида: спросят кое о чем у бригадира, позыркают по сторонам и спешат на берег. Этот же, мордастый приземистый вахлак в длинной серой шинели, поговорив с бригадиром, намерился пройти по плотам до кормы, и у Хведора недобро заныло сердце. С багром в руках он стоял по правую сторону плота, а в пяти шагах от него, держась за веревку, сидела в воде Олечка; только ее светлая головка покачивалась возле бревна на поверхности. И вот вохровец остановился посреди плота, лениво пораскачивался на толстом комле и завел с бригадиром разговор о хитростях здешней рыбалки, о том, на какую блесну берется осенью семга. Время было не позднее, но уже далеко не полдень, с севера дул холодный ветерок. Хведор напрягся от нетерпения, слушая этот бесконечный пустой разговор. Но вот, кажется, они уже собрались возвращаться к берегу, уже повернулись, уже шагнули идти… И снова остановились. Вохровец, показывая на поселок, что-то говорил бригадиру, а Хведор молча, про себя ругался: чтоб ты сдох, сытый пес! Олечка, видно, уже закоченела в воде за плотом, а вохровец медленно, с остановками шел по неподвижным плотам, говорил и говорил, потом бесцельно топтался у берега, все оглядывая реку. Хведор стоял, напряженно думая, стукнул Роговцев или нет. Наконец вохровец исчез за прибрежным кустарником, и он с трудом вытащил Олечку из воды — та вся посинела от холода и, дробно стуча зубами, не могла вымолвить ни слова. Дрожащими руками отец торопливо вытирал ее грубой мешковиной, тер худенькие плечики, впалую грудку. Надо было переодеть ее в сухое, и он снял с себя свитку, укутал дочку. Пришел Кузнецов, глянул, все понял и сбросил ватник — на, укрой! Спасибо ему, укрыл. Потом Кравец вскипятил воду, и он поил ее кипятком — казалось, как-то отогрел девочку.
На ночь положил на обычном их месте — за будкой, на влажном слежавшемся тряпье, закутал в мешковину и бригадирский ватник, Она согрелась и уснула, и он, сидя рядом, думал: может, и обойдется. Но не обошлось. Под утро начался жар, запылала дочка, просила пить, жаловалась, что болит головка. Он поил ее теплой водой, ничего другого у них не нашлось — ни лекарства, ни какой-либо травы. Утром слегка задремала, но во сне вся горела, а ему нужно было заступать за стернового. «Впереди, — сказал бригадир, — самый трудный участок реки, всем надо глядеть в оба». Но как ни глядели, все же посадили крайний плот на камни, едва сдернули его к обеду. За эти часы он сумел выкроить несколько минут, чтобы наведаться за будку, и у него всякий раз недобро сжималось сердце — Олечке было плохо. Как на беду, по обе стороны реки проплывали пустые таежные берега, тянулись дикие откосы, и над ними высился дремучий лес. Человеческого жилья нигде не было видно. Бригадир видел его горе и, похоже, сочувствуя ему, сказал: «В конце недели приедем в Мезу, там есть амбулатория, может, снесем туда девочку». Как избавления Хведор ждал, когда появится эта Меза, ждал два дня и две ночи, ни на минуту не сомкнул глаз, не прилег. То ворочал стерном или багром, то бегал по шатким плотам к будке, Олечке становилось все хуже. На третий день она уже не узнавала его, только просила отогнать птиц, и он удивился: каких птиц? Потом понял: она бредит. На следующую ночь умолкла, совсем успокоилась и тихо покинула этот мир. Как светлая маленькая птичка, навсегда отлетела в небытие ее чистая детская душа.
До полудня она лежала все там же, на тряпье за будкой, и они не знали, что делать. Наконец бригадир, выломав из пола будки три доски, велел Кравцу сколотить гроб. Тот и правда сколотил — небольшой продолговатый ящичек, в который положили остывшее тело Олечки. Ну а где хоронить? Кругом вода, плоты не пристают к берегу, что будешь делать? И бригадир надумал немного подать задний плот к мели на повороте (совсем остановить эту громадину было невозможно) и по отмели снести гробик на берег. Хведор спрыгнул с плота, ему передали гробик, и он, стоя по грудь в воде, принял его. Пока выбирался на сушу, несколько раз окунулся в воду, едва живой вскарабкался на обрыв и огляделся. Всюду стеной стоял лес — ели и пихты. Человеческого жилья по-прежнему нигде не видать, В одном месте на обрыве зияла глубокая промоина, и рядом с ней образовался ровный голый мысок. На этот мысок он перенес гробик и принялся копать могилу. Рыл каменистую землю долго и трудно, не сдерживаясь, дал волю слезам. Жизнь отняла у него последнюю радость, единственное его утешение, и Хведор думал; чего еще ждать от нее, что она может отнять еще? После всего, что с ним приключилось, собственная жизнь потеряла всякую цену, он не дорожил ею, она стала обузой. Но что было делать? Повеситься? Утопиться? Он мог бы тогда бежать, во не хотел подводить бригадира и, наспех закопав дочку, берегом бросился вниз но реке.
Поздно вечером догнал плоты и долго еще не мог глядеть на Роговцева, содрогаясь при одном только звуке его голоса. И не мог понять, как это другие, и бригадир Кузнецов тоже, держат себя с этим человеком так, будто у них ничего не случилось. Или они ничего не понимали? Или, может, боялись его? Или еще что? Но Хведору все же сочувствовали. Кравец, тихо охая, качал головой. Бригадир же упорно молчал, казалось, ни о чем другом и не думая, кроме своих плотов. Когда наконец пришли в Котлас и сбыли на лесной бирже свой караван, бригадир вроде смягчился, стал разговорчивее. Однажды воротясь вечером в их хибарку, незаметно кивнул Хведору и вывел его за угол складского строения. Там никого не было, и он тихо спросил: «Справка нужна?» «Какая справка?» — не понял Хведор. «Как какая — держи! — зло бросил Кузнецов, оглянувшись, и сунул ему в руки сложенный квадратик бумажки. — Берег для себя, но вижу, тебе в самый раз будет», — добрее закончил он.
Хведор взял справку на имя какого-то Зайцева Андрея Фомича, которая и правда вскоре ему пригодилась. Он был бы от души благодарен бригадиру, если бы не та цена, которую он за нее заплатил. Эта непомерная цена мешала его благодарности, и он порой думал, что в сравнении с загубленной детской душой все остальное ровным счетом ничего не стоит.
В разрывах туч над полем холодно и ярко светила луна, косо бросала на могилы изломанные тени крестов. Поодаль же, под соснами, лежал непроницаемый мрак, широкой тенью достигавший кладбищенского края над выгоном. Но поблизости все было отчетливо видно — каждый крест и каждый могильный холмик, И только когда луна опять скрывалась за тучей, все вокруг снова тонуло в темени; Хведор тогда как бы закрывал глаза и незряче стоял посреди могил. Вообще ему тут было покойно и радостно, он словно обретал оборванную общность с людьми и вел с ними молчаливый разговор обо всем — рассуждал, спрашивал, жаловался. Жаль, что не получал ответа, но он уже привык не получать ответа на свои немые вопросы, будто оглохнув за годы нелепых скитаний. В сонной задумчивости бродя по кладбищу, наткнулся на свежую могилу — на склоне, ближе к пригорку с соснами. Даже ночью бросались в глаза ухоженность и аккуратность этой любовно обложенной дерном могилки, обсыпанной вокруг свежим чистым песочком, в лунном освещении казавшимся совсем белым. Здесь же стояли два восьмиконечных креста — большой и перед ним поменьше, оба старательно выкрашенные белой краской. Рядом приткнулась маленькая, словно игрушечная скамеечка, на которую и опустился Хведор. Кто здесь похоронен, он не мог догадаться. Но, надо думать, не старик, не старуха — за могилами стариков так не смотрят. Может, это жена постаралась для любимого мужа? Однако баба вряд ли бы сделала все так мастеровито и добротно. Тогда — муж для жены? А скорее всего родители для своего дитяти — это, пожалуй, самая верная из всех догадок. Но нигде не было никакой надписи — безымянная могила, навек прописанная только в сердцах, близких покойному.