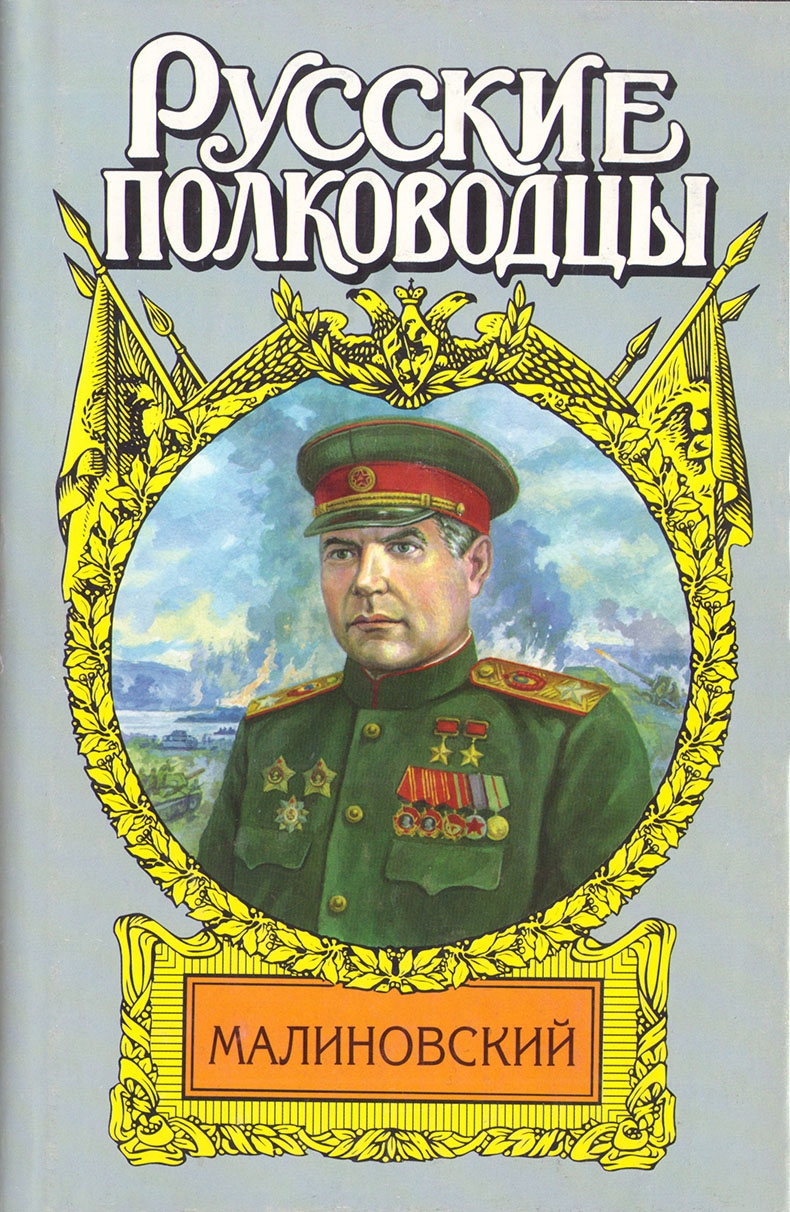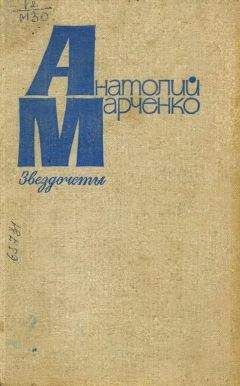Анфисы, он прощался не только с ней, но и с тем своим чувством любви, которое испытал впервые в жизни, хорошо понимая, что такого ему уже не суждено испытать до конца своих дней.
Анфиса встала с земли. Поднялся и Шорников.
— И что это они, треклятые, расщелкались? — сердито спросил Шорников, прислушиваясь к соловьям.
— А что им? — повела плечами Анфиса. — Им до нас какое дело? У них жизня своя...
Она повернулась и пошла. Шорников долго, как завороженный, смотрел ей вслед, внушая себе, что еще не поздно, пока она не выйдет из рощицы, остановить ее, схватить в объятия, смеяться от счастья, что она не ушла, и говорить, что и задание, и вся подготовка к засылке в тыл, которую вел в эти дни Илья, — все это лишь придуманная им, Шорниковым, игра, в которой он задался целью испытать ее волю, проверить ее характер, и теперь, когда у него не осталось никаких сомнений в ее верности, он оставляет ее у себя, а для разведки подготовит другого человека, лучше всего — мужчину.
Но он знал, что не остановит ее и не скажет таких слов потому, что все это была вовсе не игра, и потому, что сейчас, на этой войне, когда вздымается лава на лаву и стоит один-разъединственный вопрос, самый беспощадный из всех вопросов: или мы, или они, — нужно жертвовать всем — и любовью, и даже жизнью, — лишь бы победить.
Только на миг Шорников представил себе, что Анфиса уже никогда не вернется и что больше он уже никогда не увидит ее, как понял: теперь он лишается солнца, которое всходило каждое утро, светило ему и согревало душу.
Зачиналось утро, когда молодой художник Ратмир Крушинский стоял с мольбертом на правом берегу Москвы-реки, неподалеку от крохотной деревушки. Фанатичный поклонник Левитана, он решил посвятить свою жизнь прославлению русской природы. Хорошо понимая, что после Левитана сказать свое слово в изображении пейзажа — дело не только не простое, но, пожалуй, и безнадежное, Крушинский тем не менее отважился избрать этот чреватый тернистыми испытаниями путь и настроил себя на то, чтобы, не впадая в подражательство и не пытаясь превзойти великого художника, стать не подмастерьем, но мастером.
Он с восторгом усвоил мысль Льва Толстого о том, что если в науке еще и возможна посредственность, то в искусстве и литературе тот, кто не достигает вершин, падает в пропасть.
Человек философского склада ума, Крушинский вознамерился очеловечить природу, глубоко веря в то, что и дерево, и цветок, и вода, и туча на небе, и самая маленькая травинка способны, как и человек, испытывать чувство счастья и страдания, способны говорить на своем, присущем им языке, сопротивляться стихии, иными словами, жить так, как живет человек. У природы отнято лишь то право, которое составляет превосходство человека, — право мыслить. Кроме того, природа, не обладая собственной волей, в отличие от человека, вынуждена, хотя и не без сопротивления, подчиняться стихии.
Крушинский с трудом выбивался в художники. Отца его, мелкого чиновника, свел в могилу туберкулез, когда Ратмиру не было и десяти лет. Мать, оставшись без средств к существованию, пошла работать на табачную фабрику и с горя пристрастилась к вину. Мальчик был предоставлен самому себе. В том же переулке, где жили Крушинские, коротал свой дни одинокий старый художник. Смышленый, любящий рисовать мальчонка пришелся ему по душе, и он вознамерился обучить его хотя бы азам живописи. Молчаливый и внешне суровый старик сумел своим внутренним скрытым теплом согреть озябшую душу Ратмира и возбудить в нем сильную страсть к живописи. Занятия с Ратмиром были столь успешны, что старый мастер, обычно избегавший похвалы, однажды сказал:
— Ты будешь художником.
И через своих знакомых начал усиленно хлопотать о том, чтобы Ратмира приняли в художественное училище. Мечта Ратмира сбылась. Училище он закончил с отличием, его дипломная работа попала на выставку. Но жить было не на что, и ему приходилось подрабатывать то на разгрузке леса на речной пристани, то в подмосковных деревнях на сенокосе, то в рыбацких артелях на Волге.
По натуре Ратмир был замкнут, немногословен и восторженно относился только к природе и женщинам. Природа была доступна, в нее можно было влюбляться, даже не рассчитывая на взаимность, и он старался слиться с ней, находить в ней отраду, вдохновение. Что касается женщин, то, восхищаясь ими, он боялся их и боготворил, скрывая эти чувства от других. Потому-то, наверное, как и Левитан, рисуя пейзажи, он ни разу не попытался изобразить человека.
Летом он поселился в деревне, вблизи Москвы-реки. Как и во многих местах Подмосковья, пейзаж здесь был прекрасен, и Крушинский уверовал в то, что природа создала его таким специально для художников.
В этот день, еще не успевший отдалиться от дня летнего солнцестояния, Крушинский вышел на натуру, когда едва забрезжила заря. Расставив мольберт у одинокой березы, он намеревался сделать набросок излучины реки с ее холмистым берегом. Его давно привлекал к себе этот живописный холм, на котором, как казалось Крушинскому, можно было бы выстроить еще один кремль, почти сродни Московскому.
Крушинский уже принялся растирать кистью краску, как от этой работы его отвлекло внезапно возникшее на горизонте зарево. Сперва он предположил, что где-то занялся пожар, озаривший небо кроваво-багровым светом. Но, присмотревшись, он понял, что это не что иное, как всполохи восходящего солнца. Крушинский любил наблюдать за рождением нового дня, спозаранок выбегал за околицу деревни, чтобы не пропустить появление солнца, но нынешний восход поразил его своей фантастичностью и вызвал безотчетное чувство внутреннего озноба. Что-то зловещее было в том, как откуда-то из-за дальнего мрачного леса выкатывалось и поднималось над округой багровое солнце, словно вознамерившееся предупредить людей о грозящей им опасности. В нем не было сейчас обычной доброты и умиротворенности, какие всегда несет с собой утреннее солнце, вызывая радость и предчувствие того, что впереди у людей целый земной день, подаренный им жизнью и судьбой.
Крушинский долго, с тревогой смотрел на страшный восход. В голову вдруг полезли настырные мысли о бренности жизни, о том, что все на этой земле преходяще и не заслуживает того, чтобы человек отдавал своим деяниям столько сил, нервов и эмоций. Учащенно забилось сердце, и единственное, чего сейчас хотелось, — чтобы гневные кровавые всполохи поскорее исчезли